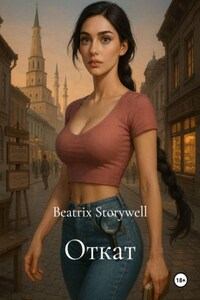Дождь бил в стекло следовательской, как метроном, отмеряющий не секунды, а долги.
Стола за окном тонула в октябрьской мгле – город из неоновых вен и гнилых артерий, который никогда не засыпал, но и не жил. Максим Кулагин отвёл взгляд от монитора. На экране застыла фотография Игоря Орлова: галстук безупречен, улыбка – как у человека, который никогда не слышал слова «нет».
Дело № 347/Б. Закрыто. Официально.
Неофициально – это был труп, который приказали закопать поглубже, пока не воняет.
Он потянулся за кружкой. Пальцы уже сжали холодный фарфор, когда внутри что-то щёлкнуло – не боль, не судорога, а механизм, древний и чужой, как шестерня, внедрённая в кость. Кружка выскользнула. Разбилась о пол с тупым, влажным звуком.
Максим не вздрогнул. Он смотрел не на осколки, а на свою руку, где под кожей пульсировало нечто, чего не должно было быть. Что-то, что помнило.
В памяти вспыхнули обрывки того мира: трехцветный флаг над белокаменным зданием, лицо девушки на платформе «Сокол», новостные ленты с другими политиками, другими скандалами. Другая Россия. Та, из которой его вырвали три года назад, швырнув в эту – в Восточную Федерацию, в её столицу, в жизнь следователя Кулагина.
«Адаптация прошла успешно», – говорили те, кто его нашёл. Как будто речь шла о настройке прибора, а не о человеке. Но память о прошлом осталась раной, которая не заживает. И ключом. Потому что он знал: мир может быть другим.
Экран снова привлёк взгляд. Теперь на нём – девочка. Алина. Пятнадцать лет. В протоколе – «добровольное согласие», «отсутствие сопротивления». Врачи написали «шоковое состояние» и перечислили гематомы, как пункты инструкции.
Максим знал этот язык. Он видел такие инструкции слишком часто. Но сейчас что-то сломалось внутри.
Он представил её – живую. Как она смеялась, как плакала, как надеялась. Как её ломали. И как она, возможно, в последний момент думала, что кто-то придёт на помощь.
Никто не пришёл.
Алина осталась одна с теми, кто называл её согласие «добровольным». С теми, кто подписывал протоколы и отворачивался. С теми, кто знал, но молчал.
И вдруг Максим почувствовал это – не гнев, не жалость, а что-то другое. Будто его собственные кости помнили каждый удар, нанесённый ей. Будто его кожа помнила каждое прикосновение, от которого она сжималась. Будто его душа знала, что это неправильно на уровне, который не требует доказательств.