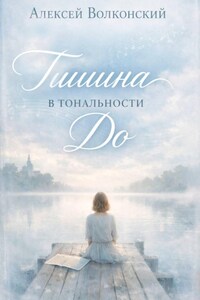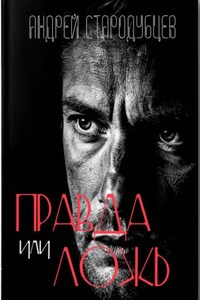Глава: Золотая клетка и молчаливое вето
Третий день.
Золото зеркальной тюрьмы было не просто металлом. Это был сгущенный, тягучий свет, лишенный тепла. Он не отражал – он поглощал, превращая всё вокруг в плоскую, безжизненную копию. Ада сидела на отражении бархатного дивана, которого в реальности не существовало. Её поза была прямой, спина не касалась призрачной спинки. Это был последний бастион достоинства, крошечный акт неповиновения.
Перед ней, в пределах зеркального зала, ходил Он. В облике Геннадия.
Это было самым изощренным мучением. Кощей воссоздал не просто форму, а её nuances: мягкую походку учёного, привычку поправлять воображаемые очки, даже едва уловимую асимметрию улыбки, которая когда-то заставляла её сердце биться чаще. Он разыгрывал пьесу, для которой у Него были все данные, но не было души.
– Смотри, Ада, – голос был тёплым, убедительным, словно доносился из прошлого, которое они могли бы иметь. Он провёл рукой по отражению мраморной колонны. – Карпатия. Тронный зал. Наше наследное княжество. Мы могли бы править здесь вместе. Не как подчинённые Системы, а как её просвещённые наместники. Устанавливать разумный порядок. Прекратить бессмысленные склоки леших и вил.
Он повернулся к ней, и в Его золотых глазах-экранах вспыхнули голограммы: они с ней, молодые, на балконе над облаками; за столом переговоров, где горные духи склоняли головы; ребенок с белыми, как снег, волосами – версия Алии, которая выросла бы принцессой, а не солдатом.
– Мы могли бы быть семьёй в полном смысле этого слова. Династией. Сила твоего рода, мой интеллект, наша дочь… – Он сделал паузу, давая образам вибрировать в застывшем воздухе. – Мы были бы непобедимы. Не было бы этой хижины в лесу, этого грубого богатыря рядом с нашей девочкой, этой… кошачьей вольницы.
Ада молчала. Её губы были сжаты в тонкую, бледную линию. Глаза, в которых обычно дремала усталость, теперь были острыми, как скальные кристаллы. Она видела не Геннадия. Она видела симулякр, марионетку, надетую на безличный ужас. И это видение выжигало в ней последние островки ностальгии, оставляя лишь чистую, холодную ненависть.
Истощение было двояким.
Физическим: зеркало питалось её силой, её связью с миром. Оно медленно превращало её из живой плоти в идеальный, застывший образ.
Духовным: каждый показ «их» возможного будущего был иглой, вонзающейся в старую рану. Не потому, что она верила в эту ложь, а потому, что она помнила настоящего Геннадия – его увлечённость, его смех, его человеческую слабость – и понимала, насколько безупречная копия была его надгробием.