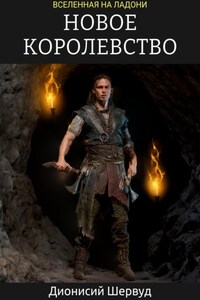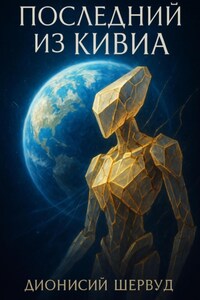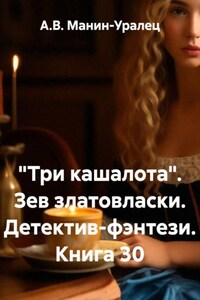Лондон, октябрь 1902 года
Монотонно идущий дождь, начавшийся ещё глубокой ночью, как–то слишком прижился за окнами кабинета, превращавшая мир университетского квартала в размытую акварель. Свинцовые струи без устали стекали по стеклам, искажая очертания колокольни и оголённых ветвей платанов. Внутри же, за толстыми каменными стенами, царила особая, замкнутая вселенная, пахнущая старой бумагой, воском для полировки дубовых панелей и слабым, но стойким запахом вековой пыли, смешанной с ароматом хорошего табака.
Доктор Артур Пеллэм, отодвинув в сторону стопку студенческих работ с размашистыми красными пометками на полях, с почти чувственным наслаждением погрузился в куда более приятное занятие – разбор посылки, только что прибывшей из Рима. На столе, застеленном зелёным бархатным сукном, уже лежали дюжина свинцовых "tabellae defixionum1" – табличек с проклятиями. Крошечные, убористо исписанные буквы, выцарапанные рукой давно канувшего в лету мастера, вызывали у него куда большее волнение, чем любая поэма Вергилия. Эти тёмные, отчаянные послания из прошлого, адресованные богам преисподней с просьбами наслать немощи на обидчиков или конкурентов, были куда красноречивее любых официальных хроник. В них была заключена голая, не приукрашенная человеческая сущность – страх, злоба, отчаяние.
Он взял одну из табличек, ощутив под пальцами знакомую прохладу и шершавость металла, и поднёс её к свету лампы под зелёным абажуром. Свет выхватил из полумрака глубокие борозды букв. Его сосредоточенность была столь полной, так абсолютно поглощала внешний мир, что он поначалу принял настойчивый стук в дверь за продолжение ритма дождя. Стук повторился и был твёрдый, уверенный, не сулящий ничего хорошего.
– Войдите, – произнёс Пеллэм, не отрывая глаз от надписи, в которой пытался разобрать имя забытого демона.
Дверь отворилась, впустив в уютный, упорядоченный хаос кабинета порыв влажного, холодного воздуха и смутную фигуру в проёме. Пеллэм наконец поднял взгляд, слегка поморщившись в ответ на столь бестактное вторжение на его территорию.
На пороге стоял коренастый, крепко сбитый мужчина лет пятидесяти, в промокшем насквозь макинтоше цвета хаки и котелке, с которого на щербатый паркет стекали тонкие струйки воды. Его лицо, с живыми, но в данный момент уставшими и недовольными, глазами, тяжёлой челюстью и крепко сжатым ртом, дышало энергией улицы, резко контрастируя с затхлой, интеллектуальной атмосферой кабинета. Он тяжело дышал, словно поднялся по лестнице бегом, и от его всей фигуры веяло таким бескомпромиссным реализмом, что казалось, он одним своим присутствием способен распугать всех призраков истории, обитавших на этих полках.