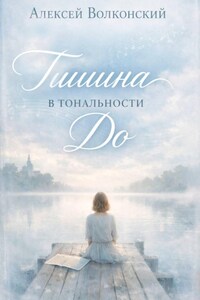Тишина в залах музея после закрытия была не пустотой, а веществом. Густым, тяжёлым, наполненным шёпотом веков и окаменевшими вздохами истории. Именно это Каи ценил больше всего. Здесь его одиночество становилось не проклятием, а естественным состоянием среды, таким же осязаемым, как бархат на музейных скамьях и холод мраморных полов. В этом мире, застывшем между прошлым и настоящим, он был не чужаком, а просто ещё одним артефактом, тщательно catalogизированным и забытым в безмолвной витрине вечности.
Его звали Каи. И он был чудовищем, которое скрупулёзно, с почти что религиозным трепетом, каталогизировало других чудовищ – за стеклянными витринами, в виде чучел и бронзовых изваяний. В этой работе была горькая, доведённая до автоматизма ирония: существо, рождённое для того, чтобы скрываться, посвятило жизнь тому, чтобы выставлять напоказ тех, кто когда-то, как и он, должен был оставаться невидимым. Он был тюремщиком в царстве узников, и эта мысль, отточенная годами, уже не вызывала в нём ничего, кроме лёгкой, фоновой горечи, похожей на привкус старого металла. Железно.
Последний ритуал дня – обход. Он был для него не обязанностью, а медитацией, способом убедиться, что границы его хрупкого мира всё ещё на месте, что за пределами музея не происходит ничего, что требовало бы его вмешательства или бегства. Его шаги беззвучно скользили по отполированному до зеркального блеска линолеуму, и этот звук – вернее, его отсутствие – был единственной музыкой, которую он признавал. Взгляд, привыкший к полумраку, скользнул по оскалу медведа-великана из ледникового периода, по застывшим в вечном полёте птицам под потолком, чьи перья давно уже истлели под слоем пыли. Ничего. Никакого отклика, ни малейшей искры в окаменевшем сознании. Они были просто мёртвой материей, красивыми оболочками, из которых давно ушла жизнь. В отличие от него.
Он замедлился у своей негласной «станции подпитки» – витрины с солдатскими письмами эпохи Великой войны. Пожелтевшие конверты, сложенные в аккуратные стопки, чернила, выцветшие до цвета сепии и времени. Здесь история не кричала о подвигах, а шептала о простых человеческих вещах: о любви, о страхе, о тоске по дому, который многие уже не увидят. Каи прикоснулся подушечками пальцев к холодному, идеально чистому стеклу, закрывая глаза.
И почувствовал.
Тонкие, как паутина, нити, протянувшиеся сквозь десятилетия. Тоска, пропитавшая бумагу на молекулярном уровне, стала сладковатым холодком на его языке. Щемящая нежность к далёкой невесте отозвалась теплом под рёбрами. Смертельный холод окопов, страх, который уже выцвел, оставив после себя лишь лёгкий, терпкий привкус, как от старого вина. Он сделал короткий, едва заметный вдох, втягивая в себя эту пыльцу чужих, отзвучавших чувств. Это был эфирный нектар, лишённый греха и боли живого человека, безопасная дистанциярованная подпитка. Голод, вечный спутник, на мгновение отступил, уступив место горьковатой, но желанной сытости. Он не насыщался, он лишь отодвигал неизбежное.