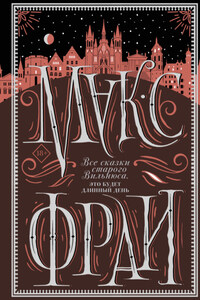Фикус в углу таверны «Подслеповатый грифон» медленно умирал, и Флора Корнелл чувствовала эту агонию каждой клеточкой своего существа. Это было не просто зрелище увядающей листвы – нет, это был тихий, надрывный стон, исходивший из самых глубин его корней, сдавленных в тесном керамическом кашпо. Этот беззвучный плач сливался с гомоном большого города за оконным стеклом, с отголосками рыночной суеты, доносившимися с площади, с миллионом других неуслышанных молитв – чахлых папоротников в приемных магистратов, пыльных гераней на подоконниках мастеровых кварталов, упрямого дикого плюща, карабкающегося по старой каменной кладке в тщетной попытке найти хоть каплю чистого солнечного света.
Флора с тихим стуком отодвинула глиняную кружку с недопитым травяным отваром. Ее пальцы, будто повинуясь собственной воле, потянулись к пожелтевшему листу, едва коснувшись его шершавой поверхности тончайшей, почти невесомой паутинкой прикосновения.
Ей было немногим за двадцать пять, но в ее глазах – зеленых, как лесная чаща после летнего дождя, глубоких и прозрачных, – стояла недетская, тысячелетняя усталость. Ее волосы, цвета спелой пшеницы, в которые будто бы вплелись тонкие нити солнечного света, были такими же непокорными, как и ее характер – они вились мягкими, живыми прядями, которые она обычно кое-как собирала в низкий пучок у затылка, откуда они вечно выбивались, обрамляя лицо и касаясь щек. Само лицо – бледное, почти прозрачное, с легкой веснушчатой россыпью на переносице и скулах, – не было красивым в привычном, кукольном смысле. Оно было подобно полотну, на котором сама жизнь выписала историю тонкой, чуткой души: с мягким, задумчивым овалом, выразительным, но не резким ртом, который в минуты волнения она имела привычку слегка поджимать, и высоким, ясным лбом – лбом мечтательницы и слушательницы миров, лежащих за гранью обычного восприятия. Фигура ее была хрупкой, почти воздушной, но в этой хрупкости таилась упругая, живучая сила молодого побега, пробивающегося сквозь камень.
«Ты же так старался, – прошептала она, и никто, кроме фикуса, не услышал этого тихого призыва. – Тянулся к свету, фильтровал пыль и печаль этого места. А ее здесь так много».
Лист под ее пальцами словно бы вздохнул, и по его иссушенным жилам пробежала чуть заметная, успокаивающая дрожь. На мгновение, короткое и яркое, как вспышка светляка в летней ночи, растению стало легче. А Флоре – нет. Ибо теперь ее внутренний слух, обостренный и без того до болезненной остроты, улавливал и соседний кактус, залитый добрыми, но невежественными руками посудомойки, и плющ за стойкой харчевни, измученный бесконечными перепадами жара от очага и ледяного сквозняка от постоянно распахивающейся двери.