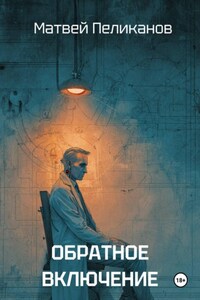Урал спит. Не тем сном, что лечит усталость, а древним, каменным сном, полным скрытых движений и невысказанных мыслей. Сны Старой Горы – Ыджыд Из – тяжелы. Это сны о времени, когда камни были мягкими, а по склонам струилась не вода, иная субстанция, теплая и живая. Сны о первом дыхании, о первом голоде.
И в этих снах есть место для мелких, мимолетных существ, что копошатся у ее подножия. Муравейники из бревен и страха, что зовут себя деревнями. Ыджыд-Войвыр – один из таких. Прилепился к каменному боку, как лишайник, и тянет из земли скудную жизнь, стараясь не потревожить того, что дремало здесь задолго до него.
Но земля помнит. Помнит копыта каменных оленей, помнит шелест каменных же крыльев, помнит вкус первой крови, пролитой в жертву. И время от времени она просыпается. Не вся – краешком сознания. И тогда из шахт, что как черные раны зияют в ее плоти, доносится скрежет. По ночам в тайге слышится топот, слишком тяжелый для медведя, а в реке Войвыр, черной и медленной, будто кто-то безглазый и холодный смотрит со дна на лунный серп.
Старая Гора видит. Чувствует. Помнит. И требует, чтобы и другие помнили. Чтобы боялись. Чтобы платили.
А в далеком Петербурге, в душной комнате студенческого общежития, молодой человек по имени Алексей Гордеев листает пожелтевшие страницы полевых дневников. Он ищет тему для диссертации. Что-то уникальное, неизбитое. Его взгляд падает на карандашную пометку на полях: «Коми-пермяцкие верования, дер. Ыджыд-Войвыр. Анимизм, пережитки культа предков, возможные архаичные практики».
Он не знает, что эта пометка – не научное наблюдение. Это приглашение. Ключ, вставленный в скважину древней, покрытой плесенью двери.
Он не слышит, как в такт шелесту страниц в тысяче километров к востоку шепчут стены полуразрушенных изб. Не видит, как в черной воде реки Войвыр колышется отражение не его лица, а чего-то старого и голодного. Не чувствует, как на него ложится тяжелый, каменный взгляд Спящей Горы.
Алексей закрывает книгу. Решение принято. Ыджыд-Войвыр. Идеально.
Где-то в глубине, в черноте затопленной шахты, с сухим треском ломается прогнившая балка. Где-то на краю деревни старик с лицом, изрытым оврагами морщин, поднимает голову и смотрит на запад, своим единственным черным глазом видя то, чего видеть нельзя. Где-то в избе, увешанной сушеными травами и страшными куклами, худая, как скелет, женщина беззвучно смеется, помешивая варево в котле.
Дверь приоткрылась. Чужак идет.
И Старая Гора во сне пошевелилась, готовясь к новой трапезе.