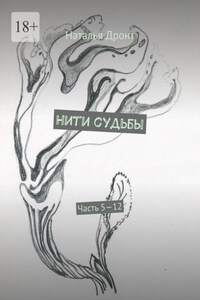Глава 1. Когда чужак касается печной золы
Телега подкатилась к краю деревни, когда солнце, окрашенное в кроваво-красный цвет, медленно опускалось за горизонт, словно старый монетный дворецкий клал свой последний грош в казну дня. Колёса скрипели так, будто каждый оборот выдавливал из них стоны вековой усталости. Лошадь, тощая и измождённая, плелась шагом, который больше напоминал ползание, чем движение. Возница, мужчина лет сорока с обветренным лицом и руками, покрытыми мозолями, время от времени подгонял её вожжами, но без особого энтузиазма. Было видно, что он сам едва держится: его голова клонилась то влево, то вправо, и только случайные толчки колёс о камни заставляли его вздрагивать и хвататься за ручку телеги.
Маркиз спустился с деревянного сиденья с такой же осторожностью, с какой кот приземляется с забора – каждое движение рассчитано, каждый шаг предусмотрен. Пыль поднялась под его подошвами, образуя золотистое облако, сквозь которое проступали контуры его фигуры: худощавой, в аккуратном тёмном плаще, совершенно чужой среди этой грязной окраины. Он стоял неподвижно, позволяя пыли осесть, и смотрел.
«Итак, вот она – деревня, которая станет моим полигоном», – подумал он, чувствуя, как его губы невольно растягиваются в холодной улыбке. «Сколько здесь всего нужно исправить… Но с чего начать? С людей? С их запасов? Или с того, что они называют порядком?»
Лошадь вздохнула, как если бы облегчилась от бремени, и тотчас крестьянин, который вёз телегу, начал искать ближайший трактир – или хотя бы сарай, где можно было бы укрыться от надвигающегося холода. Его голос, хриплый и усталый, разнёсся по воздуху: «Эй, хозяин! Есть ли у вас место для путника?»
Маркиз не стал дожидаться ответа. Его внимание уже переключилось на деревню, которая раскрывалась перед ним как полузакрытая книга на древнем языке. Пятнадцать, может быть, семнадцать жилищ – покосившихся изб, словно уставших стоять прямо, словно годы медленно склоняли их в поклон какой-то неведомой силе. Глиняные стены нежились под последними лучами солнца, впитывая красноту вечера, и казалось, будто весь посёлок окрашивается в цвет крови или заката – трудно было разобрать, что именно. Крыши были покрыты соломой и дранкой, потемневшей от времени и сырости. Щели между брёвнами запечатаны мхом и паклей, но уже видны места, где защита начинала рассыпаться, обнажая тёмные дыры, словно раны, которые никто не спешил перевязывать.
Когда Маркиз сделал первый шаг по узкой тропе, которая служила главной – единственной, собственно, – улицей поселения, его ноздри раскрылись, впитывая воздух, раскладывая его на составляющие, как музыкальный аккорд разлагается на отдельные ноты. Дым – не просто дым, а дым из сырых дров, смешанный с чем-то животным, может быть, конским навозом. Под ним ощущалась сметана, кислая и тяжёлая. И ещё – сухость, парализующая сухость речного песка, того песка, который никогда полностью не высыхал, но и не становился грязью. Это было ощущение смерти, но медленной смерти, смерти по частям, по зёрнышкам.