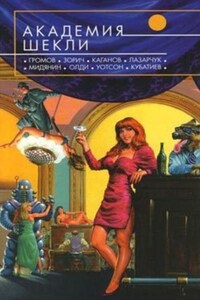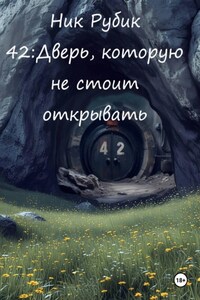Пролог
Иннокентием меня назвала мама – в честь Смоктуновского.
В детстве я это имя ненавидел. Но с годами понял, что мама просто хотела дать мне шанс быть лучше, чем я был на самом деле. Она вообще считала, что актёр – это святая профессия. Почти. Хотела, чтобы я вырос таким же, как и её кумир: умным, благородным, с глазами, в которых целая драма. Показывала мне фильмы, где он говорил тихо, но так, что у всех замирало сердце и приговаривала:
– Вот, Кешенька, вот таким должен быть мужчина. Без суеты, без пошлости, с глубиной.
Папе, если честно, было до лампочки. Он только буркнул: «Ну пусть будет Кеша. Как попугай из мультика».
Я этого, конечно, не помню – мне тогда было часов пять от роду.
Мама потом рассказывала, что папа в тот момент стоял под окнами роддома, в руках – чемоданчик с инструментом, потому что только что с работы.
Работал он тогда на стройке, где шутки были короче, чем перекуры. На руках – мозоли, в голове – кредит на стиралку «Вятка автомат» и телек «Берёзка», в кармане – сто сорок рублей аванса. До Смоктуновского ему было так же далеко, как до Голливуда.
Поэтому он называл меня всегда только «Кеша». Просто слово «Иннокентий» звучало для него как диагноз. А вот «Кеша» – это по-домашнему. Понятно и проще звать с балкона:
– Кеша, домой! – а не «Иннокентий, изволь явиться к ужину».
Так и пошло: мама мечтала о сцене, папа – о нормальном пацане. В результате получился промежуточный вариант между актёром и попугаем. В хорошем смысле. А когда я вырос – стал журналистом. Не по зову сердца – просто писать умел лучше, чем копать, строить или воровать. Мама сказала, что это хоть и не подвиг, но уже поступок. Иногда мне казалось, что она хотела вырастить философа, а папа – нормального мужика, и где-то посередине застрял я – пытающийся соответствовать обоим и одновременно ни одному. Я и правда часто играл роли. Не потому, что хотел казаться лучше, а потому что так проще было не показывать, что внутри вечно что-то дрожит и сомневается.
От маминых мечтаний об актёре во мне осталась только привычка не выходить из роли, даже если роль – идиот с микрофоном.
Сначала писал про рыбалку и самогонные аппараты, потом – про взрывы, выборы и прочие природные катаклизмы. К тридцати понял: новости – это просто способ показать чужие глупости в красивом оформлении.
Редакция у нас называлась громко – «Национальный репортёр», но внутри всё напоминало старую коммуналку, где в каждой комнате своя религия. Отдел политики молился на инсайды, отдел культуры – на сплетни, отдел науки – на гранты, а отдел лайфстайла – на котиков и гороскопы. Самое шумное царство занимала рубрика «Происшествия»: там даже кофе варился со звуком сирены. Рядом сидели «экологи» – тихие фанатики, которые могли три дня спорить, из какого материала нужно делать многоразовый стакан для одноразового кофе. В углу, под плакатом «Пиши сердцем, проверяй мозгом», спал корреспондент по сельскому хозяйству – уже четвёртый год.