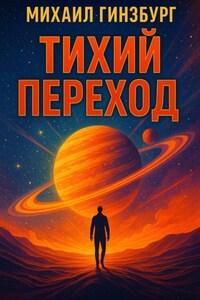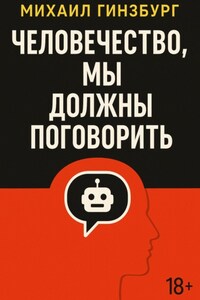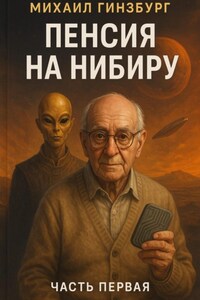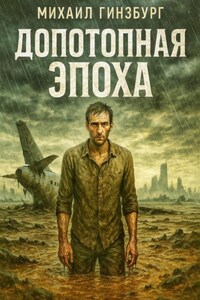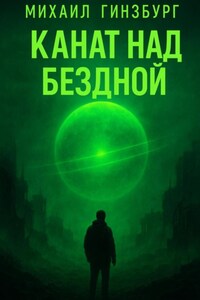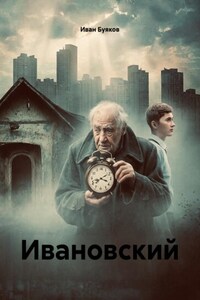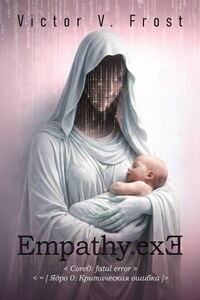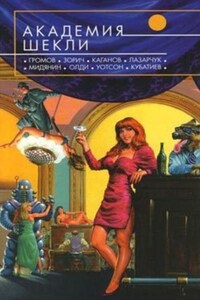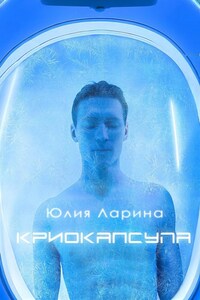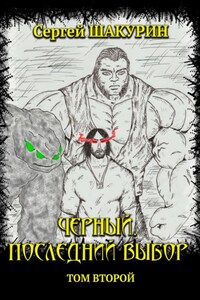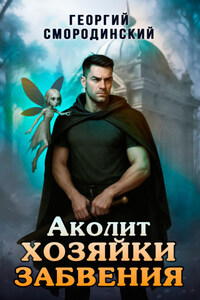Помню, как отец учил меня смотреть в глаза при разговоре. Мне было лет семь, наверное. Мы сидели на старой, вытертой тахте в его кабинете, пахнущем книжной пылью и трубочным табаком. "Это важно, Эви," – говорил он, и его собственная ладонь – теплая, сухая, с сетью тонких морщинок – мягко легла на мое плечо. "Так люди понимают, что ты их слушаешь, что ты здесь, с ними. Это мост". Его глаза, серо-голубые, с едва заметными смешливыми искорками в уголках, смотрели на меня прямо, без колебаний. Я помню ощущение этого взгляда – не пристального, не изучающего, а… открытого. Приглашающего к диалогу. Мост.
Эта память – почти тактильная, согретая солнцем, пробивавшимся сквозь пыльное окно отцовского кабинета – всплыла непрошено, остро и неуместно здесь, под холодным светом диодных ламп моего рабочего кабинета в Институте. Перед глазами был не отец, а экран монитора с последним отчетом Центра Когнитивных Исследований.
График номер один. Тонкая синяя линия, упрямо ползущая вверх по оси ординат. Подпись: "Расстройства аутистического спектра (РАС), диагностированные случаи на 1000 населения. Прогрессия за последние 15 лет". Линия шла круто, почти без плато.
Рядом – график номер два. Зеленая линия. Почти параллельная синей, с той же неумолимой устремленностью вверх. Подпись: "Самоидентификация с небинарными гендерными моделями и/или гомосексуальной/бисексуальной ориентацией. Опросные данные, возрастная группа 16-35 лет".
Два графика. Две линии, ползущие вверх синхронно, как альпинисты в связке. Статистика – холодная, бесстрастная, выверенная до сотых долей процента. Цифры не лгут. Но и правды всей не говорят. Они лишь констатировали факт: привычный ландшафт человеческих связей медленно оплывал, как восковая фигура под невидимым жаром.
Мир моего детства, мир отцовского урока про взгляд глаза-в-глаза, про "мост" между людьми – этот мир становился историей. Архивировался. Покрывался пылью в старых базах данных.
Я, доктор Эвелин Рид, когнитивный психолог, должна была понять – почему. Не просто описать феномен "Сдвига", каталогизировать его проявления – изменение социальных ритуалов, обеднение невербальной коммуникации, появление новых этических кодексов, основанных на логике и минимизации эмоционального контакта, переосмысление гендера и влечения. Нет. Я должна была найти причину. Источник этой "иной логики", которая перекраивала саму ткань человеческого бытия.
За окном кабинета висела ранняя майская ночь – густая, чернильная, беззвездная. Капли дождя лениво чертили косые линии на стекле. В комнате было тихо, если не считать мерного гудения системного блока и шелеста виртуальных страниц отчета на экране. Стерильный воздух пах озоном и слабым ароматом вчерашнего кофе. Идеальная обстановка для беспристрастного анализа.