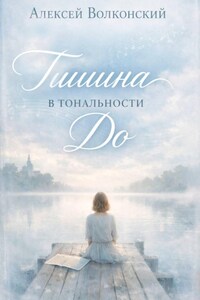Боль плыла мутными волнами, не острая, а давящая, словно толща воды над утопающим – так же давило виски, и все звуки доносились из другого измерения. Антон стоял, сжимая в кармане пальцами мятую пачку сигарет, и смотрел, как гроб опускают в землю.
Эта мокрая, жирная глина, прилипающая к полированному дереву. Приглушённый звук: всхлипы, шёпот, монотонный голос священника – всё это слилось в сплошной гул, словно помехи в наушниках. Он был лишь оболочкой, марионеткой, чьи нити держало Чёрное Что-то, заменившее ему душу, которое кивало, когда нужно было кивать, и вздыхало, когда в толпе проносился вздох.
Его остекленевший взгляд скользнул по венкам. И зацепился. На самом большом, из алых роз и белых хризантем, траурная лента отклеилась с одного края и безвольно свешивалась, колышась на ветру. Криво. Неровно.
От этой мелочи его передёрнуло с такой силой, что пальцы сами сжались в кулаки.
Пока священник говорил о вечном покое, а тётя Насти причитала, Антон резко шагнул вперёд. Руки его не дрожали. Он механически, с исступлённой тщательностью, прижал бархатную ленту к влажному каркасу венка, вогнал металлическую булавку обратно, выровнял складки. Сделал идеально.
Только тогда он поднял глаза и встретился взглядами с присутствующими. Они смотрели на него с жалостью, испугом, недоумением. Эта жалость обжигала больнее, чем сама пустота внутри. Он видел их лица – Лизу, сжавшую платок в комок, Сергея, мрачно уставившегося в землю, Яну, прятавшую заплаканные глаза за тёмными очками.
– Антон, дорогой… – начала кто-то из родственников.
Он не слушал. Его взгляд снова упал на священника.
– А почему именно этот стих? – его голос прозвучал громко, сорвавшись с шёпота. – Она его не любила. Говорила, он унылый. «Православных усопших»… а если человек не верил так, как вы? Если он верил в… – он запнулся, сглотнув ком в горле. – В энергию леса, в квантовую запутанность душ? Вы там, в своих книгах, об этом что-нибудь пишете?
Шёпот стих. Воздух сгустился, стал тягучим, как расплавленный металл. Священник смотрел на него с бесконечным терпением и лёгким укором.
– Сын мой, в такой час…
– В такой час и нужно говорить правду! – голос Антона снова сорвался на фальцет. – А не читать по бумажке то, что не имеет к ней никакого отношения! Она была живая! А вы её… вы всё это… в эту яму…
Он не закончил. Рука Лизы мягко, но настойчиво легла на его локоть, оттягивая назад. «Антон, хватит», – прошептала она, и в её бархатном, обычно таком спокойном голосе, дрожали сдержанные слёзы.
Со стороны это выглядело как истерика, доведённая до абсурда. Как клиническое безумие горя. Люди отводили глаза, перешёптывались. «Бедный, не держится… Совсем разучился… Надо же, на похоронах…»