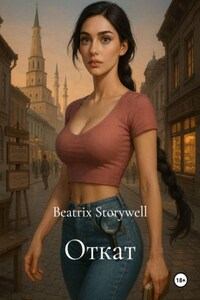ПЕПЕЛ ИМПЕРИИ
Дело следователя Эдмунда Феликсовича Котта
ПРОЛОГ
Ветер с Невы был не просто холодным. Он был колючим, как стёкла разбитых витрин, и густым от запахов – гари с горящих окраин, дешёвого пороха, дегтя, человеческого пота и страха. Город более не столица. Он – гигантская, раскалённая до бела тигель, в котором плавится всё: вековые устои, понятия о чести, сама человеческая суть. Где-то гремит канонада, порой близко, порой призрачно далеко. Улицы, эти некогда парадные артерии Империи, напоминают теперь изуродованные, пульсирующие вены.
В маленькой, промёрзлой насквозь комнате на Петроградской стороне, где от сырости пузырятся обои и сквозь щели в полу тянет ледяным сквозняком, сидит человек. Он не стар, но в его глазах – возраст ветхозаветного пророка, видевшего конец света. Это Эдмунд Феликсович Котт. Бывший следователь. Теперь – никто. Он кутается в поношенное пальто поверх пижамы, дрожащими руками пытаясь зажечь коптилку – жестяную банку с фитилём в сале. Жирный, чёрный дымок наконец взмывает вверх, отбрасывая на стены пляшущие, гротескные тени.
Перед ним на табуретке лежит потрёпанная тетрадь в кожаном переплёте. Это не дневник. Это – отчёт. Последний отчёт, который никогда не будет прочитан начальством, ибо начальства того больше нет. Его страницы испещрены нервным, торопливым почерком, иногда сбивающимся в неразборчивые каракули, иногда – выводившим буквы с ледяной, протокольной точностью. Он пишет не для правосудия. Правосудие мертво. Он пишет для… будущего? Какого будущего? Он пишет, чтобы зафиксировать. Чтобы хоть кто-то, когда-нибудь, узнал, что конец наступил не в октябре семнадцатого. Не от рук взбунтовавшихся матросов или озверевших солдат. Что пушка «Авроры» была лишь глухим эхом, финальным аккордом в симфонии, которая начала звучать гораздо, гораздо раньше.
Он пишет о восковых фигурках, холодных и липких. О проповеднике с глазами горящего льда. О подземных лабораториях, где смешивали древние заклинания с новейшей хирургией. О диаграммах, где социальный хаос был расписан, как химическая формула. Он пишет о самом страшном – о людях в мундирах и при орденах, которые не боролись с заразой, а изучали её, направляли, лелеяли, видя в ней последний, отчаянный инструмент власти. О том, как революцию готовили не в каморках у пекарей и не в казармах, а в салонах особняков и в кабинетах сыскного отделения. Её готовили как мистический акт, как кровавое таинство, где жертвами должны были пасти не цари и министры, а само понятие о человеческом.
Котт поднимает голову, прислушиваясь к завыванию ветра. Ему чудится в нём знакомый гул – тот самый, из подземной залы. Он зажмуривается. Нет. Это ветер. Только ветер. Но знание, сидящее в нём, тяжелее любого камня. Он понял слишком поздно, что расследовал не преступление, а симптомы смертельной болезни. Что он был не следователем, а патологоанатомом, вскрывающим труп эпохи, и вдруг обнаружившим, что органы ещё шевелятся, управляемые какой-то иной, чужеродной волей.