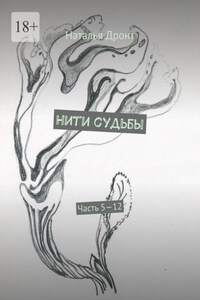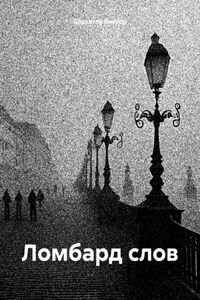– Телеграфируйте, – простонал с кушетки Николай Борисович, – Татьяне Николаевне, что муж её, Николай Борисович, скоропостижно скончался.
– Я сама себе телеграфировать ещё должна? – насмешливо восхитилась Татьяна Николаевна, повязывая у зеркала томный душистый платок.
– Что муж её перед смертью клялся в любви к своей супруге. Уверял, что не может жить без неё. Но раз она решила, что готова сломать, растереть и позабыть все эти годы… Слышите! Все эти наши с вами совместно прожитые годы!
– Господи, дуремар какой, – Татьяна Николаевна с силой надавила на виски.
– Раз в её желании не быть с мужем, то и муж её, Николай Борисович, тоже откланивается, желает счастья с другим и покидает сию юдоль скорби, по недоразумению или упущению называемую жизнью.
– Ну почему вы такой? Почему вы не можете просто меня отпустить? Всему однажды приходит конец. Я люблю другого, как вы не можете понять! Людям светским свойственно ошибаться. Так и я ошибалась, считая союз с вами разумным и достойным.
Николай Борисович схватился за сердце и заурчал, как сломанный холодильник: «Падшая женщина! Ах-ха-ха! Прихвостень дьявола! Я убью себя, можете не сомневаться».
– Николай Борисович, помилуйте.
– Я отравлю себя шницелем!
– Шницелем… – вслед за ним повторила Татьяна Николаевна. – Почему же шницелем? Почему вам в голову, друг мой, пришла такая несусветная глупость? Почему шницелем?
– Или… – взгляд Николая Борисовича переместился в сторону гостиной, – я откручу ему голову.
– Не трогайте Поскрёбыша, – заволновалась супруга, готовая уже было шагнуть за порог. – Умоляю, не трогайте моего птенчика. Ну что же вы за человек такой. Птичка-то вам что сделала? Пообещайте мне…
Супруг залился в ответ страшным протяжным хохотом:
– О, я вам обещаю! Я вам обещаю, дражайшая моя, что всенепременно съем иглу.
Николай Борисович выудил откуда-то из письменного стола большую позеленевшую сапожную иголку и потряс ею в воздухе, безумно поглядывая на свою супругу.
– Но я не умру. Не так-то всё просто, дорогая моя. Да, я останусь жить! Вы знаете, что произойдёт? Игла дойдёт до желудка, обволакиваемая слизью, и застрянет там. И никто, ни даже я сам, никто не будет знать, когда именно она нанесёт свой смертоносный укол. Она будет лежать внутри меня, подобно тоскливой ноше, которой вы награждаете меня, день, месяц, год. Но вот однажды я буду кушать шницель…