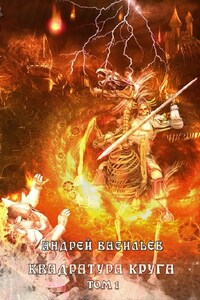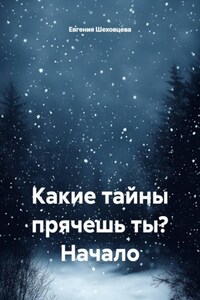Архив и шрапнель
Сердце прихватило в девять утра, среди стеллажей с делами под номерами 1870–1919. Александр Петрович Меньшиков, полковник ФСБ в запасе, хранитель особого архива на тихой окраине Москвы, упал на холодный каменный пол так тихо, что его падение не потревожило даже вековую пыль на папках. Острая боль в груди сменилась ледяным спокойствием, а последним, что он увидел перед тем, как поплыли красные круги, была обложка толстого дела: «“Лузитания”. Материалы переписки. 1915. Сов. секретно».
Его сознание не гасло, а, словно кинопленку, перематывало вспять десятилетия службы. Не бумаги – живые судьбы. Дело о подложном манифесте Екатерины II, шифры декабристов, отчёты царской охранки о слежке за большевиками, донесения японской разведки из Порт-Артура… Но самыми объёмными, самыми изученными до дыр были папки, связанные с Первой мировой. Той войной, где Россия, по его глубокому убеждению, стала разменной монетой в чужой игре. Он помнил каждый документ: шифрограммы из Стокгольма, отчёты о «Магдебурге», сводки с Галицийского фронта. И центральным узлом этого клубка – потопление «Лузитании». Не трагедия, а блестящая, кровавая провокация. Многоходовка, где сотни жизней стали лишь пешками. Он выстроил в голове всю цепочку: как британская разведка "Комната 40", получив от русских моряков шифровальные книги с «Магдебурга», читала немецкую переписку; как знала о планах подлодок; как намеренно ослабила эскорт роскошного лайнера, гружённого, вопреки всем конвенциям, американскими патронами и снарядами; как ждала катастрофы, чтобы всколыхнуть общественное мнение за океаном. А потом – телеграмма Циммермана, та самая, где Германия предлагала Мексике союз против США. Её расшифровка и умелая публикация стали последним рычагом, который перевернул историю. США вступили в войну, обрекая Германию на поражение, а Россию – на истощение, революцию и хаос. «Крупнейшая подстава в мировой истории», – мысленно произнёс Александр Петрович, и это была его последняя, горькая мысль в мире 2023 года.
Сознание вернулось с невыносимой головной болью. Давящей, пульсирующей, сосредоточенной где-то за правым виском. Вместо запаха пыли и старой бумаги – резкие, едкие ароматы карболовой кислоты, йода и табака. Он открыл глаза. Не знакомый сводчатый потолок архива, а дощатый, побеленный известью, по которому ползла трещина. Рядом хрипел и плевался кто-то другой. Александр Петрович попытался повернуть голову – мир поплыл, и новая волна тошноты подкатила к горлу. Он застонал.
– Полковник очнулся! Сестра! – услышал он молодой, взволнованный голос.