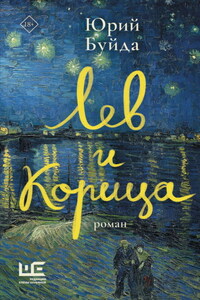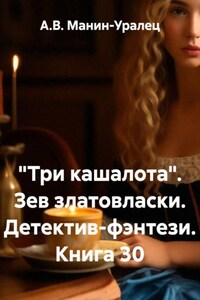Мартовским туманным вечером Лев Полусветов с женщиной на руках шел к воротам Царицынского парка, выходящим к метро «Орехово».
Он широко и легко шагал по снежной каше, расползавшейся на тротуарной плитке, и казалось, что ноша его ничего не весит.
Встречные сторонились и оглядывались, морща нос: от женщины, безвольно свесившей ноги, пахло мазутом, мочой, бедой, и даже при свете фонарей можно было разглядеть, что одета она в какую-то грязную рванину. Шнурки на ботинках не были завязаны, они свисали и болтались в такт шагам мужчины, который смотрел прямо перед собой, не обращая внимания ни на дождь, ни на людей.
Полицейский у ворот посторонился, пропуская Полусветова, и долго провожал его взглядом, пока тот не спустился в подземный переход.
Он перешел на другую сторону Шипиловского проезда и двинулся по направлению к Ореховому бульвару, потом свернул налево и углубился во дворы, где редкие собачники выгуливали своих питомцев.
Женщина время от времени подавала признаки жизни, но сводились они главным образом к мычанию и икоте. Полусветов старался не думать о своей куртке, пропитавшейся мазутом, мочой и бедой, и только иногда бормотал сквозь зубы: «Не бойся, ничего не бойся». Женщина в ответ пускала слюни.
В этом доме Полусветов жил не так давно, соседей не знал и знать не хотел, но в те минуты, пока поднимался в лифте с женщиной на руках, он просил высшие силы сделать так, чтобы на лестничной площадке у его двери никого не было.
Когда лифт остановился на седьмом этаже, Полусветов вскинул женщину на плечо, достал из кармана ключ, отпер дверь, ногой захлопнул ее за собой, включил свет, опустил женщину в ванну, бросил ее сумочку на пол и перевел дух.
Переодеваясь, он пытался вспомнить, где лежит чистая женская пижама, нашел, бросил на кровать и вернулся в ванную.
Женщина лежала на боку, подтянув колени к животу и прикрыв локтем лицо.
Однако он успел хорошо рассмотреть это лицо – было в нем что-то восточное: линия бровей, монгольское веко у внутреннего угла глаз, форма губ…
Она замычала, когда Полусветов снял с нее вязаную шапочку, освободив сбитую на затылке копну темно-каштановых волос, но больше не издала ни звука, только пыхтела, пока он стаскивал куртку, свитер, ботинки, лифчик, колготки и трусы.
Всё было рваным, даже трусы и лифчик, причем изорванным так, словно кто-то специально потрудился, чтобы превратить ее одежду в клочья, пропитанные керосином и креозотом, а еще чувствовались запахи мочи и машинного масла.