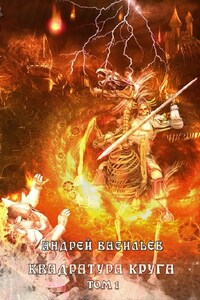Больше не было тишины.
Даже здесь, в глухом подземелье, в высеченной древними руками пещере, куда не доносился ни ветер, ни голоса, Атлас слышал шум. Не звук. Ощущение. Как будто гигантские шестерни где-то в фундаменте мироздания, всегда вращавшиеся с отлаженной, неумолимой плавностью, вдруг наткнулись на песчинку. Тихий, постоянный скрежет. Вибрация, отдававшаяся в костях.
Он сидел, прислонившись к холодному камню, и смотрел на свою левую руку. Шрам, бледный и безмолвный, ничего не говорил. Но присутствие внутри – тот огромный, спящий архив – было беспокойным. Оно не спало. Оно прислушивалось. И в его бездонных глубинах, куда Атлас теперь боялся опускаться, уже начинали всплывать обрывки чужих воспоминаний, не вызванные им самим: вспышка паники в далеком городе, крик ребенка, ощущение падения с высоты, которого он никогда не испытывал. Знак Скрижали, пробужденный и травмированный, начал принимать сигналы из мира сам. Как радио, настроенное на волну всеобщей боли.
«Дрожь», – подумал Атлас, сжимая руку в кулак, чтобы прекратить легкое, неконтролируемое дрожание пальцев. Это не был его страх. Это был страх камня под ним, страха сотен тонн породы, которая вдруг перестала быть незыблемой.
Он поднял голову. В свете тусклого светлячкового мха, собранного в глиняной чаше, он видел Дрену. Она лежала на грубом ложе из шкур и сухого папоротника, ее грудь едва поднималась в ритме неглубокого, прерывистого сна. Серый плащ был сброшен, и теперь он видел все: черные, застывшие реки тени, расползавшиеся от раны на плече вверх по шее, к виску, и вниз, под ключицу, к сердцу. Они не пульсировали. Они были как шрам на ее коже и на ее душе. Но иногда, когда снаружи – в мире – случался особенно сильный «толчок», она вздрагивала, и прожилки на миг вспыхивали тусклым багровым светом, как старая рана, на которую надавили.
Он спас ее. Он вживил в ее душу якорь чужой верности, сдержав тень ценой своей способности давать клятвы. И этим, как он теперь понимал, сделал ее чувствительным прибором, антенной для последствий своих же действий. Она была связана с ним не эмоционально. Она была связана физически, через искаженную магию. Любовь? Он не мог назвать это чувство, остывшее в его груди до состояния холодной констатации факта, любовью. Это был долг. Самая тяжелая ноша из всех. И каждый его шаг, каждое пробуждение его силы, отзывалось в ней болью.
Снаружи, за занавесом из влажных корней, служившим дверью, послышался шорох. Не шаги Лоренца – тот двигался бесшумно, как тень. Это был Кай. Бывший «Добытчик», а ныне – ходячий комок вины с глазами-туннелями, вырытыми ужасом.