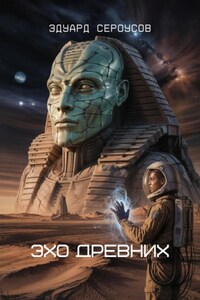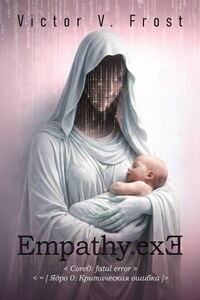Обсерватория Атакама, Чили. День 0, ночь.
Ночь две тысячи восемьсот сорок седьмая ничем не отличалась от предыдущих двух тысяч восьмисот сорока шести.
Элиза Чэнь сидела перед шестью мониторами, и данные текли сквозь неё – бесконечный поток цифр, графиков, спектрограмм. Для любого другого человека это был бы хаос, белый шум вселенной, записанный на жёсткие диски. Для Элизы это были цвета.
Серые. Тусклые. Мёртвые.
Она потёрла глаза и взглянула на часы в углу центрального монитора. 03:17 по местному времени. За окном операционного центра – если это крохотное отверстие в бетонной стене можно было назвать окном – простиралась пустыня Атакама, самое сухое место на планете. Идеальное место для того, чтобы слушать космос. Идеальное место для того, чтобы исчезнуть.
Кофеварка в углу зашипела, сигнализируя о готовности третьей за ночь порции. Элиза встала – колени хрустнули, напоминая о том, что ей давно не сорок два, а все сорок два с хвостиком, который становился всё длиннее – и побрела к кофеварке, не отрывая взгляда от мониторов.
Привычка. Восемь лет в этой бетонной коробке на высоте двух тысяч шестисот метров выработали целый набор привычек: не смотреть на звёзды слишком долго (начинала кружиться голова от осознания масштаба), не думать о том, что осталось внизу (там ничего не осталось), не проверять почту чаще раза в неделю (всё равно никто не писал).
И никогда, никогда не позволять себе надеяться.
Кофе был горьким и слишком крепким – именно таким, каким она его любила. Элиза вернулась к мониторам, обхватив кружку обеими руками, хотя в помещении было не холодно. Система климат-контроля поддерживала постоянные двадцать два градуса, оптимальную температуру для работы оборудования. Люди – опциональное дополнение.
На главном мониторе продолжал разворачиваться знакомый танец данных. Детекторы LIGO – два гигантских интерферометра в Луизиане и Вашингтоне, соединённые с обсерваторией выделенным спутниковым каналом – фиксировали каждое колебание пространства-времени. Каждый раз, когда где-то во Вселенной две нейтронные звезды сталкивались, или чёрная дыра поглощала своего компаньона, или какой-нибудь далёкий катаклизм порождал рябь на ткани реальности – детекторы чувствовали это. Крохотные возмущения, измеряемые в долях диаметра протона.
Для Элизы это выглядело как цветовые волны, накатывающие на берег её восприятия. Всю жизнь она видела математику таким образом – переливающиеся поля, где каждое уравнение имело свой оттенок, каждая функция – свою текстуру. Синестезия, сказали врачи, когда ей было восемь. Редкая форма – математика-цвет. Ничего опасного, даже полезно для научной карьеры.