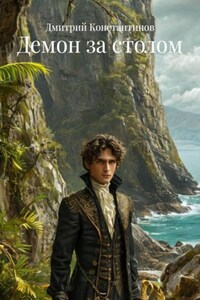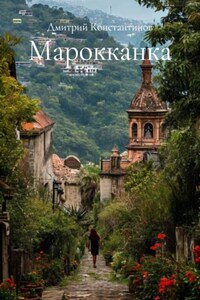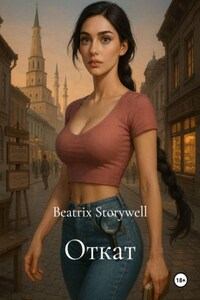Над Францией 1793 года стоит не просто время, – стоит какой-то неведомый климат души, который, как назойливый запах, просачивается в каждую щель, в каждую человеческую грудь. Это не то чтобы погода – это вовсе небо, но небо смущённое, смятенное и будто бы одержимое какой-то святой, по-видимому, очень жестокой идеей: мыслью о правде, о правде любой ценой. И вот – что из этого вышло: повсюду подозрение, поскорбность, крики, и каждый человек, как бы он ни старался быть только человеком, неизбежно стал чем-то иным – свидетелем, доносчиком, судом, жертвой и, что страшнее всего, – исполнителем своей собственной терзающей правды.
Если хотите представить себе Париж того года, то прежде всего представьте улицы: узкие, влажные, с камнем, который ещё хранит печать прошедших шагов – шагов королей, кардиналов, мещан, злодеев, святых и проституток. Но теперь на этих камнях лежит что-то иное: не просто грязь, не просто снег или дождь – некое общее дыхание толпы. Толпа шуршит, толпа говорит, толпа смотрит, и в её взгляде – нечто животное и одухотворённое одновременно; она тотчас же готова на pious-свирепость, на ритуал убийства во имя нового Евангелия.
Как ни странно, самым характерным явлением был не только палач с его холодной машиной (о, эта машина, о, гильотина! – да, машина, столь же строгая и безличная, как приговор), но и музыка голосов, сливающихся в одном безудержном хорале: возгласы «Liberté! Égalité! Fraternité!» – и за этими словами немедленно – голод, холод, и в ту же минуту – смертный приговор. Правда здесь была не догмой, а страстью. Человеческое слово, только что освобождённое от прежних цепей, превращалось в орудие: оно назидало, оно осуждало, и, что хуже, само себя оправдывало через насилие.
Свидетельства времени: дворцы опустели, но не в том смысле, что их стены молчат – они теперь отдают эхо, эхо криков тех, кто когда-то стоял у алтаря. Люди, которых раньше уважали или боялись, – теперь в публичном зачёркнуто: картотеки имен пополняются черной чертой; на углах улиц – комитеты, где молодые люди в бесстрастных лицах читают приговоры, где мужчины в плащах, резко отточенные, будто бы вырезанные, говорят о необходимости чистки нации; женщины, более не только украшение, но и активные участницы, с огненными глазами, шепчут, возбуждают, ловят слух на слухах, и в их речах слышны не ревность или зависть, а какая-то мстительная, почти религиозная ревность к Революции.
Именно эта религиозность – самое ужасное. Люди забыли Бога в прежнем смысле, но спустя время Бог вернулся под иным именем: имя это – Революция. И как верующему нужно покаяние, так и революционеру нужно было покаяние – товарище, признавайся, иначе ты – предатель. Улицы были заполнены святыми трибуналами; не было ни одного двора, где бы не обсуждали добро и зло в тоне, где смешались безумие и проста. Как же могло быть иначе, если с утра до вечера на площадях совершались жертвоприношения – не столь жуткие по форме, сколько по духу: за каждой казнью следовало настроение очищения, и люди, выходя на закат, обсуждали событие как проповедь.