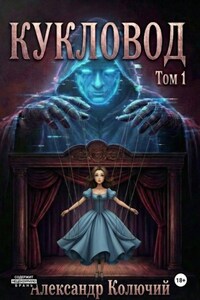Конец смены – лучшее время суток. Это негласный, почти священный закон любой научной лаборатории, и наша, занимавшаяся скучными для обывателя, но захватывающими для меня проблемами высокопрочных сплавов, не была исключением. Дело было не в том, что впереди маячил заслуженный отдых в компании старенького дивана, остатков вчерашней пиццы в холодильнике и сериала, на который у тебя вечно нет времени. Это всё было лишь приятным, но необязательным бонусом. Нет. Конец смены был прекрасен тем, что из твоего личного, почти стерильного рая, где всё лежало на своих местах, подчинялось законам физики и работало по строго определённым протоколам, наконец-то испарялись все лишние, хаотичные сущности. В моём случае – аспиранты.
Милые, толковые ребята, конечно. С огнём в глазах и непоколебимой верой в светлое будущее отечественной науки. Но, к сожалению, с руками, которые росли из совершенно неанатомических мест и обладали каким-то сверхъестественным, почти магическим талантом ронять самые дорогие, хрупкие и, как правило, единственные в своём роде экспериментальные образцы. Я до сих пор с содроганием вспоминал, как стажёр Лёша умудрился уронить на пол тигель с расплавом висмута. Убирать застывшие серебристые капли со сверхчистого кварцевого пола, стараясь не поцарапать его и не создать микроскопическую пыль, которая могла бы испортить следующий эксперимент, было тем ещё развлечением. А как аспирант Паша, протирая оптику спектрометра, перепутал изопропиловый спирт с ацетоном, оставив на линзе стоимостью с его годовую стипендию мутные, неустранимые разводы? О, эти истории можно было издавать отдельным сборником трагикомедий.
Поэтому, когда последний из них, тот самый Паша, пожелав мне доброй ночи и удачного эксперимента, наконец скрывался за тяжёлой, гулко ухнувшей гермодверью, я испытывал настоящее облегчение, сродни тому, что чувствует хирург, оставшись наедине с пациентом после толпы говорливых интернов. Наступала она – благословенная, продуктивная тишина.
Только я, мерный, убаюкивающий гул немецких вакуумных насосов, похожий на мурлыканье очень большого и очень довольного кота, и холодное, синеватое свечение трёх мониторов, отражающееся в идеально отполированных хромированных поверхностях установки. Тишина, нарушаемая лишь щелчками реле и моими редкими комментариями вполголоса, адресованными неодушевлённым железкам.
Я сделал большой глоток остывшего кофе из своей любимой, треснутой у ручки кружки с надписью «Сопромат не прощает». Кофе был отвратительным, как всегда. Растворимый суррогат «Каждый день», который наш завхоз Семёныч закупал огромными банками, потому что «настоящий молотый, Виктор Павлович, это буржуазное расточительство, не по-государственному». Но этот суррогат содержал кофеин – истинный, единственный и незаменимый двигатель научного прогресса. Без него половина открытий так и осталась бы лежать в папке с названием «додумать завтра, если будут силы». Этот горький, землистый вкус был вкусом моей работы, вкусом компромисса между желаемым и действительным.