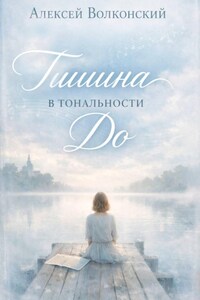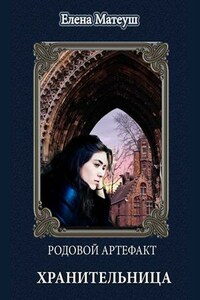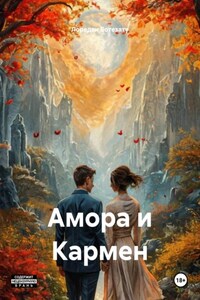Здание тянулось вглубь так, как тянутся мысли, когда их не зовёшь и не запрещаешь, – коридоры плавно перекатывались в комнаты, комнаты отворялись дверями, которые знали больше, чем рассказывали, и вся эта архитектура ощущалась не столько пространством, сколько настроением, принявшим форму стен. Она шла, не считая шагов, потому что здесь шаги были не мерой, а ритмом, и искала того, чьё имя не приходило на язык, – не потому, что имени не существовало, а потому, что оно здесь не имело власти.
Иногда за дверями находились ряды пустых кресел, тёплых на ощупь, как будто их только что покинули люди без теней; иногда – длинные столы с чашками, которые не успели узнать ни воды, ни губ; иногда – полки с книгами, напечатанными паузами и белыми полями, где читатель становился чернилами; и всякий раз ей казалось, что она заглянула в комнату, которой когда‑то пользовалась, но забыла ключевые причины, и потому предметы стояли на своих местах с вежливой чуждостью, как знакомые, с которыми не обменялись именами.
Она искала и знала, что поиск здесь является не действием, а способом быть; коридор принимал её плечи, тишина несла дыхание, двери распахивались так, будто признавали в ней не гостью, но часть внутреннего механизма; и там, где обычный путь просил бы указателя, сон предлагал намёк, и этого хватало, чтобы продолжать.
Он сидел в кресле; не человек и не статуя, а присутствие, собранное в форму ожидания, прямо, без попыток упростить; маска лежала на его лице так естественно, будто лицо и придумали затем, чтобы маске было где отдыхать; когда она подошла ближе, повисший между ними воздух стал плотнее, и она, не спрашивая разрешения, сняла первый слой. Осторожно, как снимают плотную ткань со света, чтобы не вспугнуть то, ради чего раскрывают окно.
Под маской оказалось лицо, точное и неправильное, как портрет, написанный по памяти; и на этом лице – другая маска; была снята и она, и третья, и четвёртая; маски падали мягкими кругами на пол, прислушиваясь к собственному весу, а лица менялись, сохраняя ту неуловимую повторяемость, какая выдает родство между отражениями; глаза (если это были глаза) не моргали, не потому что не умели, а потому что здесь не было зрителя, которому полагалось бы показывать движение.
В какой‑то момент она перестала считать; в какой‑то момент понялось, что счёт и есть ловушка; в какой‑то момент стала ясной простая вещь: не всякая последовательность стремится к центру, – есть такие, что строят окружность вокруг пустоты; и тогда она задержала ладони, позволив очередной маске уже не падать, а остаться в пальцах, – прохладная, не металл и не кожа, как вещь, выдуманная для промежутка; и поняла, что то, что она ищет, не прячется «под», потому что «под» здесь бесконечно.