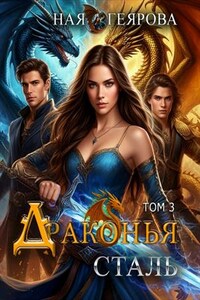Здесь. Под этим солнцем, что не грело, а выжигало саму мысль о тени, начиналась моя история.
Солнце в Гусмандии было не источником жизни, а приговором. Его свет – липкое, тягучее насилие, расплавленный янтарь, в котором застывали, как доисторические мухи, любые порывы, любые искренние эмоции. Оно пропитывало воздух приторным запахом карамели и гниющей на мелководье ряски, превращая каждый вдох в акт подчинения. Дышать здесь означало глотать сладкую ложь этого мира, соглашаться с его правилами. Мир, созданный не богом, а кондитером-социопатом, для которого любая горечь – личное оскорбление.
Тень была ересью. Темные, бархатные провалы под кронами деревьев казались не укрытием, а порталами в запретное, в ту самую правду, от которой все здесь так отчаянно бежали. В них хотелось не просто спрятаться – в них хотелось раствориться, перестать быть глянцевой, отполированной куклой на витрине всеобщего благополучия. Любая щербинка на идеальной брусчатке, любой дикий, нестриженый цветок воспринимались как плевок в лицо мирозданию. Зло? Само это слово стерлось из языка, его заменили эвфемизмы: «недоразумение», «неловкий момент», «временное несоответствие идеалу». Они так долго и усердно делали вид, что его не существует, что почти убедили в этом сами себя.
И в эпицентре этого сияющего, тошнотворного самообмана обитал он. Беркор.
Совершенство было его болезнью. Его манией. Его тюрьмой. Белизна его оперения была не цветом, а его отсутствием, абсолютной пустотой, в которой тонули все остальные краски. Это был цвет стерильной операционной, цвет кости, вываренной дочиста. Каждое перо – не дар природы, а результат титанического, ежесекундного контроля над собственным телом, над каждым мускулом. Патологическая симметрия, от которой веяло не гармонией, а безумием. Когда он двигался, по его спине пробегали не волны света, а судороги сдерживаемой силы. Он не источал свет – он пожирал его, не оставляя ничего вокруг.
Его глаза – два осколка вечной мерзлоты. В них не было ни безмятежности, ни гениальной печали. В них была лишь оценка. Он смотрел на мир, как патологоанатом смотрит на труп – с холодным любопытством, выискивая скрытые дефекты, пороки, гниль. Этот взгляд раздевал, препарировал, и под ним любой чувствовал себя уязвимым, грязным, неправильным. Именно этот взгляд заставлял трепетать, желать, подчиняться.
Его клюв – алый скальпель, идеальный для того, чтобы вскрывать чужие души. Его хвост… О, это был не просто веер. Это был ритуал, сеанс массового гипноза. Когда он раскрывал его, он не подражал павлинам. Он утверждал свою власть. Мир замирал не от восхищения. Мир замирал от страха. В этот момент каждый – от восторженного гусенка до старого селезня – осознавал свою ничтожность перед лицом этого ледяного идеала. Они видели не красоту. Они видели приговор собственному несовершенству. А Беркор стоял, неподвижный, и впитывал их унижение. Он не наслаждался, он питался им. Это была его доза, единственное, что заставляло замолчать ледяной вой пустоты внутри него.