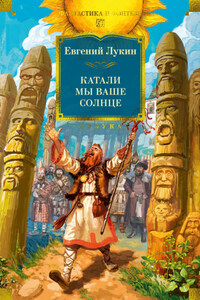Они сидели на широких, раздавленных временем ступенях храма, сложенного из чёрного базальта.
Камни, выточенные ветром и дождями, вросли в почву – они сами стали её частью.
Когда-то по этим ступеням поднимались ученики. Они ступали босыми ногами, в плащах из грубой ткани, несли лампады и сосуды с благовониями.
Лукосу не нравился ореол мистики, но бороться с ним он не стал. Он считал: если человек пришёл как ученик, значит, он ищет знание. А прикосновение к непостижимому – это тоже путь. Значит, не стоит мешать. Так постепенно и возник культ веры в Лукоса.
Он сам даже не заметил, когда это случилось.
Но те голоса давно рассеялись.
В Храме больше никто не задавал вопросов, никто не дышал в такт звёздам, никто не прислушивался к хору небес.
И всё же он стоял – упрямый, чёрный, как сама память планеты.
Лукос сидел молча.
Он был андроид с человеческой душой. Его лицо сохраняло черты когда-то живого носителя – копии, чьё имя давно затерялось в архивах.
Движения и голос Лукоса были, слишком размеренными, слишком спокойными.
Он был оболочкой, хранителем знаний. Имя «Лукос» он выбрал себе сам.
Когда-то он жил на Земле. Но во времена Великого Симбионта Валериуса решил уйти – покинул планету и отправился к Альфе Центавра, где основал храм знаний. Уединившись, он посвятил свою жизнь познанию.
Болтон сидел рядом и смотрел на склоны гор. Он знал: Лукос помнит многое. Слишком многое. И потому в лишних разговорах не нуждается. Его мысли всегда тянулись к глобальному – к тому, о чём люди, погрязшие в быте и мелких заботах, разучились думать уже давно.
Долгое молчание нарушил ровный, но вкрадчивый голос:
– Ты всё ещё думаешь, что ошибся? – спросил Лукос, не отводя взгляда от неба,
где бледным угольным светом горела Проксима Центавра.
Болтон не ответил сразу.
Он провёл пальцем по ступени. Камень был гладкий и холодный,
словно вбирал в себя дыхание тысячелетий.
– Я думаю, что если бы я ошибся, меня бы уже не было. Но я здесь.
Значит, петля ещё не замкнулась. Она продолжается.
– А если это не петля, а спираль?
Болтон медленно повернул голову.
В его глазах отражалась дрожащая линия Местной звезды, словно огонь,
пытающийся вырваться из-под толщи веков.
– Тогда она поднимается, – сказал он. – Вверх. К той точке, где причина уже не помнит следствия.
Где никто не может сказать: «я начал – и потому существую».
Лукос кивнул едва заметно.
– Ты думаешь, люди ещё помнят, зачем были?
Вопрос повис в воздухе, как эхо, которому не дано обрести форму.
Болтон поднялся. В его движениях было что-то тяжёлое – не усталость, а тень выбора, тянущая к земле.