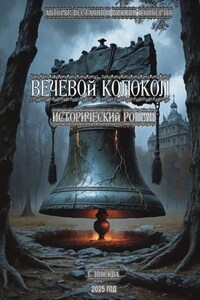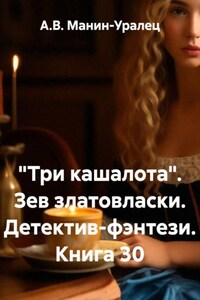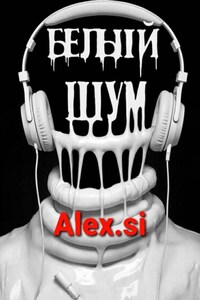Была осень. Не та, золотая и ясная, что воспевают в палатах, а глухая, промозглая, по-звериному чуткая. Ветер гулял по вершкам сосен, и сосны гудели, словно набат по чему-то утраченному. Воздух, пахнущий прелой листвой, дымом и первой ледяной крутой изморозью, воздух был густ, им дышать было трудно, как перед грозой.
Мужики из деревни, что ютились на берегу замерзающей речки, слушали этот гул и молчали. Они не знали слов «элегия» или «ностальгия». Они чувствовали это нутром – тоскующую тяжесть под сердцем. Будто тянет к чему-то, названия чему нет, да и быть не может, потому что слово то забыли, вырвали с корнем. Осталось лишь смутное щемление, далекий отголосок.
А в центре деревни, на пожне, пылал костер. Но не праздничный, не жаркий, а чадный и неверный. Дьяк Силуан, костлявый и черный, как галька, стоял над огнем, и бросал в него не поленья, а память. Дощечку с вырезанной старинной птицей-Сирин, что хранила от дурного сна – в огонь. Глиняную свистульку, чей звук помнили еще прадеды на первых покосах – в огонь. Клочок бересты с загадочными, не кириллическими знаками, что хранил старик Иван на груди, – и его в жадные языки пламени.
«Суеверия! Бесовские плевелы!» – голос Силуана визжал, как пила, но слова его будто ударялись о стеклянную стену, возведенную вокруг мужиков. Они стояли, неподвижные, как лес, и смотрели не на дьяка, а на огонь, пожирающий их прошлое. В их молчании была не покорность, а иная, древняя и страшная сила – сила непонимания. Они не понимали, зачем жечь то, что хранило, лечило, напоминало.
Иван, по прозвищу Знатель, стоял впереди всех. Не старый еще мужчина, но с глазами, в которых будто отражались не только эти сосны, но и все те леса, что были здесь испокон веков. Он не смотрел на костер. Он смотрел поверх него, в чащу, где в шелесте листьев, в треске сучьев, в отдаленном крике птицы еще жил тот самый язык, который теперь пытались сжечь. Язык, в котором не было слова «владеть», а было слово «беречь». Не было слова «приказ», а было слово «совет».
Он мысленно слышал его, этот язык, – густой, как смола, ясный, как родниковая вода. Он был речью самой земли, а не приказа из далекого города, где правил мальчик-царь, и где писали на бумаге слова, ничего не значащие для реки, для леса, для хлеба в поле.
И в этот миг Иван понял, что битва, которая идет, – не за веру, не за земли, не за подати. Она идет за душу. За право называть вещи так, как их называли отцы и деды. За право слышать в слове не просто звук, а живущую в нем силу.
Сгорала последняя береста. Пламя на миг вспыхнуло ярче, осветив непроницаемые лица мужиков, испуганные глаза баб, застывшую в отчаянии и гневе фигуру его дочери Марьи у порога избы.