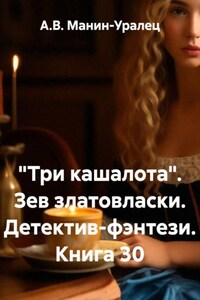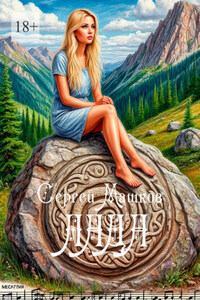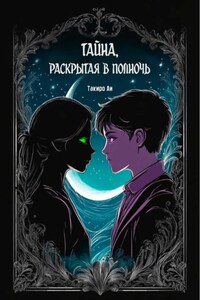В тот год бронза зеркал перестала ему льстить. Отражение всё еще хранило облик тридцатилетнего мужчины, но в самой его сути что-то треснуло. Едва различимые линии у крыльев носа теперь ложились глубокими тенями, будто шрамы, оставленные самим временем.
Вечером в комнату просочился холод, который не мог унять самый жаркий огонь: осознание, что смерть, потерявшая его три века назад, наконец-то встала на след. Короткий укол страха пробил брешь в его вечности, разделив её на "до" и "после".
Он искал спасения там, куда прежде побрезговал бы заглянуть. Просиживал ночи в притонах тайных обществ, внимал безумцам, чьи речи были лживы, а отвары – ядовиты. Но эти «пророки» не могли дать ему ничего: они умирали, не дожив до собственной старости, не владея и крупицей тех сил, что таяли в его руках.
Тогда пришло горькое понимание: он один. Последний или первый – не имело значения. Но если живых учителей не осталось, значит, искать их нужно не в словах, а в трещинах самого мироздания.
Десятилетия ушли на то, чтобы научиться просеивать материю бытия. Мир хранил надменное молчание, пока однажды тишину не прорезал зов – тонкий, как игла, и ледяной, как северный ветер.
В тот день он был богатым торговцем в Александрии – очередная маска, сросшаяся с лицом за долгие годы. Он выронил флакон. Тяжелый аромат белой амбры смешался со зноем площади и зыбким запахом ливанского кедра. Он замер с протянутой рукой, не замечая осколков под ногами, боясь шелохнуться: тишина наконец-то ответила ему, и он не мог упустить ни единого звука.
Он отправился в путь. Сила вела его рывками, заставляя то замирать на годы, открывая лавки в роскошной Сирии, то спешить вслед за караванами в Константинополь. Шаг за шагом, меняя товары, имена и лица, он просочился в Италию и, наконец, в туманные леса Алемании – туда, где зов становился почти осязаемым.
Нищая Европа встретила его холодом: здесь не было места благовониям и древним свиткам, а аромат мирры терялся в вони немытых тел. Он сменил восточную одежду на грубую шерсть и стал торговать недорогой всячиной – той, что открывала двери и к состоятельным господам, и к бедным крестьянам. Он колесил по дорогам, прислушиваясь к зову. Его пальцы, привыкшие пересчитывать динары, всё чаще нащупывали холод кинжала под тёплым плащом.
Голос пульсировал в висках – неумолимый и жадный. В какой-то момент маг понял: зов идёт от живого существа. Впервые за десятки лет его захлестнула надежда – острая и горькая, как яд. Он не один. Это предвкушение пьянило, как неопытного юношу; грядущая встреча обещала стать праздничным слиянием родственных душ.