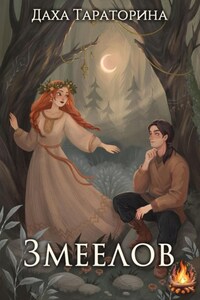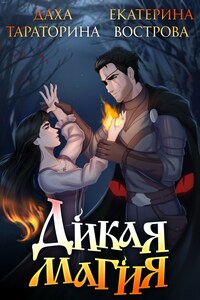Травушка принарядилась инеем, ровно заневестившаяся девка в праздничный убор. Выглянет дневное светило, согреет землю-матушку – и заплачет осока горючими слезами, стыдливо скрючится, пряча нагое тело, а там и вовсе сгниет. Стужа жалела ее – не потоптать бы! – и шла осторожно, берегла хрупкую красоту. Потому поршеньки[1] ступали по тропке ровно, один пред другим, и глядела девица на них только, а не по сторонам. За то и поплатилась: самую малость до колодца оставалось, когда путь преградил мóлодец. Да какой! Высок, статен, кудри златые, речи дерзкие! Одна беда, что не по ее, не по Стужину честь эдакий жених.
– Что ворон считаешь, Студеница? – засмеялся он, небрежно отталкивая девку с тропки. – Доброму человеку пройти не даешь.
Стужа пошатнулась, тихонько хрустнула под кожаными поршнями заиндевевшая трава.
– Добрый сам бы с дороги отошел, – процедила она.
– Чего говоришь?
А что ей еще сказать, девке непутевой? Чтоб Студеницей не обзывал? А кто она, коли не Студеница? На свет появилась едва ли не холодной, да мать отмолила, сама заместо дочери в Тень ушла. Чтоб не дразнился? Так все дразнят, от мала до велика! Уродилась девка таковой, что лучше бы вовсе не рождалась: хворобной, бледной, слабой. От самого малого сквозняка норовила околеть, а как в лета вошла, так и вовсе хоть плачь. У иных девиц коса в руку толщиной, щеки румяны, очи ясны. А Стужа что? Мышь полевая: три мшистых волоса в четыре ряда, глаза серы, уста что две тонкие ниточки.
– Ничего…
Стужа поправила коромысло на плече и двинулась дальше. Да не тут-то было! Молодец обогнал ее, оперся локтем о колодезный навес.
– Что, по воду?
Стужа не ответила. И без того ясно, что не по грибы, а коли нет, так и объяснять без толку.
– Баньку небось топите?
– Ну топим.
Вот же пошутил Старший Щур[2], награждая семью эдаким сыном! Красив Людота ровно княжич, а глуп как полено. Баньку перед закликанием Мороза в каждом дворе топят. Как иначе-то?
– А опосля к праздничку готовиться станете? Батюшка избу угольком окурил? Матушка тесто на пироги поставила?
Могла Стужа сказать, мол, кому матушка, а кому и мачеха, но чего ради? Людоте до того и дела нет, к другому ведь разговор ведет.
– Ты, коли спросить хочешь, когда Нана без присмотру останется, так и спрашивай. А то ходишь вокруг да около, работать мешаешь.
Стужа зло нацепила ведро на крюк и скинула в колодец. Вóрот[3] скрипнул, закрутился… Но заместо плеска раздался такой гул, что уши заложило. Девка перегнулась через сруб поглядеть. Первые заморозки едва опустились на деревню – быть не может, чтобы вода заледенела.