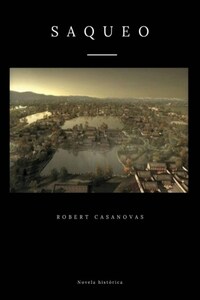Глава I
Чем я занималась в ночь на 4-е июля 1995 года
«Лишь круглый идиот умён в семнадцать лет…»
Есть! Слово найдено, ай да Нелли, ай да поганка… Пылко скомкав несколько исчерканных карандашом листов розоватой добрушинской бумаги, я швырнула их в корзину и распахнула окно. Предрассветный час ворвался в комнату запахом липового цвета. Слишком жаркое лето.
Сколько ж переводчиков билось над этой строкой!
On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
Ничего нет страшней таких вот простых строчек. Никто из корифеев с этой не совладал. Ведь жуть берет, что они пишут! «Нет рассудительных людей в семнадцать лет», или «Серьезность не к лицу, когда семнадцать лет»… Или еще: «Едва ль серьезен кто, когда семнадцать лет»… Да от такого легкомыслия засохнуть можно!
Так они и засохли, по чести сказать. Корифеи – они же старики. Старики переводят классику, гербарий гербария призывает. Да только как быть, если классик – наглый бесшабашный щенок, прославившийся в шестнадцать, а к девятнадцати уже скомкавший свою славу и швырнувший ее в корзинку, как только что я – кипу черновиков?
Артюр Рембо – щенок. Гениальный щенок. Маленькое чудовище.
Я вложила в строку не заданный ею парадокс. Я, кроме того, была груба. Я справилась, я поймала стремительную мальчишкину тень.
Я вернулась к бюро. Бюро, кстати, тоже французское, дамское, осьмнадцатый век, обретенный на одном из обожаемых мною блошиных рынков. Москва на глазах оборачивалась Парижем. Липовый ли запах был тому виной?
Лишь круглый идиот умен в семнадцать лет.
В бокалах тает лёд на столиках под липой,
И липовый во тьме июльской тает цвет,
И весело бродить с толпою многоликой.
На Монмартре сейчас – каждое кафе манит открытыми столиками под сумасшедшим небом Ван-Гога. А за липами – памятник Эжену Каррьеру – довольно плохой памятник довольно хорошему художнику, не мрачному вопреки своей серебристо-коричневой бедной палитре. Эжен Каррьер писал портрет Верлена. Жаль, что не написал и Рембо. Не успел, надо полагать.
Рембо, конечно, Рембо…
Как там у них, у академиков?
«Вы смотрите вокруг, шатаетесь один,
А поцелуй у губ трепещет, как мышонок».
Когда они в последний раз целовались, эти академики? Я представила себе вальяжно рассевшуюся на губах мышь.
Нет, по-русски тут и «поцелуй» лишний. И губы, собственно, тоже. Неужели не понятно, что зверушка-то и есть подростковый рот?!
И рот твой как зверок – лукаво ждёт добычи.
Пальцы немного дрожали. Меня переполняло то блаженное безумие, когда не успеваешь не то, что записывать, не успеваешь додумать одну мысль, а ее, как волной, уже накрывает другая.