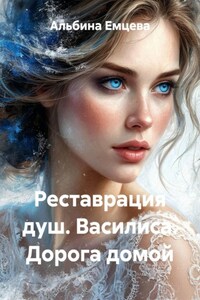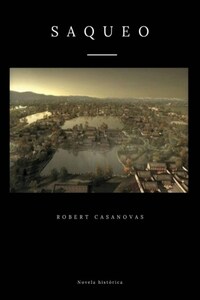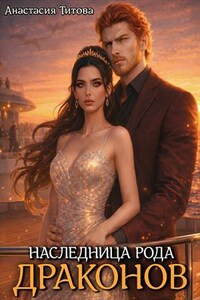Пролог: Пепел памяти
29 октября 1941 года, Москва
Ночь была не просто черной. Она была слепой, бездонной, вырвавшей у города душу и поглотившей последние следы света редкие мелькания карманных фонариков, прикрытых ладонью, и призрачные отблески фар, зачехленных синими тканевыми щитами. Воздух, колючий от предзимнего морозца обжигал легкие, цеплялся за горло. Москва, сжавшаяся в ожидании нового удара, замерла, как раненый зверь, затаившийся в своей берлоге и прислушивающийся к вою сирен.
Снег, редкий и острый, как осколки стекла, начал падать с неба, затянутого низкой, дымной пеленой. Он ложился на развороченную землю, на обугленные балки, словно вывернутые ребра, на груды кирпича, но под его хрупким, предательским покрывалом проступали черные, зияющие раны, как свежие воронки, почерневшие скелеты домов, следы недавнего ада, в который погрузился ее город. Ее Москва.
Тася, закутанная в старый, еще бабушкин, шерстяной платок с выцветшими цветами и в пальто, пробиралась по знакомой, но до неузнаваемости изуродованной ее родной улице. Каждый шаг отдавался в висках глухим стуком, сердце колотилось где-то в горле, готовое выпрыгнуть. Она оглядывалась, цепляясь взглядом за каждую движущуюся тень, за каждый шорох, рождённый ветром в разбитых окнах. Страх был холодным и липким, он сковал живот и сделал ноги ватными. Но долг, зов крови, тот самый, что жил в бабушкином кольце на ее пальце, был сильнее. Она должна была это сделать. Для бабушки.
Вот он. Их дом. Точнее, его призрак. Снаряд, угодивший неделю назад в соседний деревянный особняк, ударной волной вывернул полстены их двухэтажного каменного гнезда. Крыша просела набок, будто сломанная птица, беспомощно распластавшая крыло. Окна зияли черными, пустыми глазницами, из которых, торчали осколки стекол. Рядом с проломом была дыра, открывавшая взгляду внутреннюю часть дома с обрывками обоев с нежными розами, перекошенную дверь в чулан, голую кирпичную кладку.
Дверь в их главную комнату висела на одной, скрипящей петле. Тася, затаив дыхание, проскользнула внутрь, в колючую, промозглую темноту дома.
Тишина внутри была оглушительной. Иной, мертвой, вязкой. Ее нарушал лишь хруст битого стекла под ногами, скрип уцелевших половиц и навязчивый, призрачный шелест падающего за ее спиной снега. Он кружился в воздухе, проникая сквозь открытые раны дома, и ложился тонким, сверкающим в лунном свете покровом на пепелище. Бледный, холодный свет луны пробивался сквозь дыры в кровле, ложась пятнами на разгромленное пространство, выхватывая из мрака обломки былой жизни.