Линза разбудила её в шесть четырнадцать – на минуту раньше будильника, как всегда. Тонкая контактная плёнка на левом глазу мигнула, выбросив строку бледно-голубого текста поверх потолочной панели: «Температура наружная: –3°C. Рекомендация: куртка с термослоем 2. Завтрак: протеиновая каша с черникой (запас обновлён вчера). Индекс качества сна: 64/100. Отклонение от нормы: фаза REM – увеличена на 22%. Рекомендация: консультация сомнолога.»
Лина моргнула, и текст погас. Потом моргнула снова – осознанно, двойным нажатием – и отключила рекомендации до конца утра. Она знала про REM-фазу. Знала лучше любого сомнолога, которого могла бы предложить линза. Сны стали длиннее четыре месяца назад – сразу после первой серии экспериментов с нейроинтерфейсом третьего поколения. Ничего клинически значимого, просто мозг осваивался с новыми паттернами нейронной активности, как мышцы осваиваются с непривычной нагрузкой.
Так она себе говорила.
Ноги коснулись пола – прохладного, приятного. Квартира «Периметра» была стандартной для научного персонала второго уровня: сорок квадратов, терморегуляция, окно с видом на северный склон. Достаточно, чтобы жить. Слишком мало, чтобы жить вдвоём, но эта проблема решилась три года назад сама собой.
На кухонной стойке стояли две кружки. Белая – её. Синяя, с отколотой ручкой и надписью «Cogito ergo dubito» – его. Лина взяла синюю, не задумываясь, привычным жестом, как берут зубную щётку. Насыпала молотый кофе в турку. Настоящий кофе – колумбийский, выращенный на орбитальной ферме «Лагранж-2», доставленный челноком прошлого четверга. Роскошь. Пятьдесят граммов в неделю – привилегия сотрудников Консорциума, одна из немногих, которые она ценила. Линза могла бы приготовить синтетический аналог за тридцать секунд – точная реплика вкуса, аромата, даже зернистости на языке. Но Лина варила настоящий. Алекс всегда говорил, что разница между оригиналом и копией – не во вкусе, а в том, что оригинал когда-то был живым.
Она подумала об этом и сразу перестала думать. Налила кофе. Сделала глоток. Обожгла язык.
Хорошо.
За окном Женева-Высокая просыпалась в предрассветных сумерках. Город, рождённый катастрофой, выглядел так, будто стоял здесь всегда – терморегулируемые фасады, покрытые тонким слоем инея, взбирались по альпийскому склону ярусами, соединённые крытыми переходами и грузовыми пандусами. Старую Женеву затопило в 2094-м, когда Рона вышла из берегов в последний раз. Теперь там было озеро – мутное, химически нестабильное, огороженное бетонными волноломами. Иногда по выходным семьи приходили на смотровую площадку и показывали детям верхушки затопленных зданий, торчащие из воды, как надгробия. Дети скучали. Для них это было просто озеро.

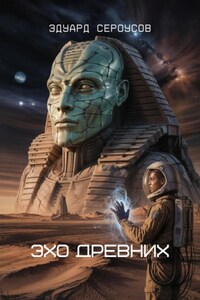










![Суд нечеловеческий §2 [Эпоха Плача]](/uploads/covers/77/77511c8b851050ed088e6fe95bc43484d131ac7f.jpg)