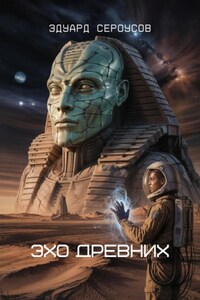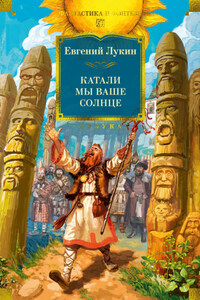Снег за окном падал неправильно.
Артём Волков заметил это краем глаза – снежинки двигались слишком медленно, словно воздух загустел, превратился в желе. Оптическая иллюзия, конечно. Усталость. Сорок три часа без сна делают странные вещи с восприятием. Но где-то на границе сознания, там, где интуиция ещё не научилась врать, шевельнулась мысль: а что, если нет?
Он отвернулся от окна. Лаборатория тонула в сумраке – только экран монитора бросал синеватые блики на разбросанные бумаги, стаканы с остывшим кофе, образцы в пластиковых контейнерах. Обычный рабочий беспорядок. Обычная ночь в институте. Всё обычно, кроме того, что через несколько минут за ним придут.
Артём знал это с той же ясностью, с какой знал законы термодинамики. Не предчувствие – расчёт. Когда утром он отправил последний отчёт в архив, система зарегистрировала доступ с внешнего адреса. Кто-то читал его файлы в реальном времени. Кто-то, у кого были ключи от закрытых секторов сервера. Кто-то, кто понял, что Артём понял.
Двадцать лет. Двадцать лет он собирал осколки головоломки, которую никто не считал головоломкой. Изотопные аномалии в обменной материи – статистический шум, говорили коллеги. Случайные флуктуации, говорили рецензенты. Артефакты измерений, говорил Чен, когда Артём приносил ему данные. Виктор Чен, директор программы, человек с глазами, которые никогда не улыбались, даже когда улыбалось лицо.
Но это был не шум. Артём знал это теперь с абсолютной, ледяной уверенностью.
Это был язык.
Его пальцы легли на клавиатуру. Диктофон на столе уже записывал – красный огонёк пульсировал в темноте, как сердце умирающего прибора. Артём не доверял цифровым записям, не после того, как понял масштаб. Аналоговый диктофон, кассета, плёнка. Старые технологии. Труднее перехватить, труднее стереть.
– Запись номер… – он запнулся, потёр глаза. Какой номер? Сотый? Двухсотый? – Неважно. Последняя запись. Если ты слушаешь это, значит, меня уже нет.
Голос звучал хрипло, незнакомо. Чужой голос. Голос человека, который слишком долго разговаривал с тем, что не должно было отвечать.
– Рината, – он произнёс имя дочери как заклинание, как молитву. – Рината, я надеюсь, что ты никогда не услышишь эту запись. Надеюсь, что я ошибаюсь, что успею выбраться, что всё это окажется паранойей измученного ума. Но если нет… если нет, то тебе нужно знать.
Шаги.
Далеко, в конце коридора. Ритмичные, уверенные. Не охранник – тот шаркает, его Артём узнал бы по звуку. Не уборщица – те приходят в шесть утра. Сейчас три семнадцать. Мёртвое время, когда институт пуст, когда камеры переключаются на ночной режим с пониженным разрешением, когда никто не задаёт вопросов.