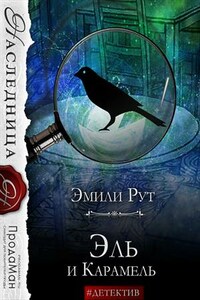Ночь в больнице пахнет хлоркой и безнадёгой. Эти два запаха въелись в Лидину жизнь так же прочно, как запах кошачьей мочи – в старый паркет её хрущёвки. Третий час ночи. Длинный коридор отделения гнойной хирургии, тускло освещённый дежурной лампой, напоминал чистилище; только вместо грешных душ здесь по палатам пердели и постанывали свежепрооперированные старики.
Лидия, тридцати двух лет от роду, толкала перед собой ведро на колёсиках, ставшее за годы работы её единственным надёжным спутником. Швабру она мысленно звала Верный. Сегодня Верный особенно бодро шлёпал по кафелю, размазывая сероватую жижу.
Визуал Лидии был продуманным актом самосаботажа. На макушке, подобно вороньему гнезду после урагана, громоздился тугой пучок немытых волос. Из него то и дело выбивались сальные пряди, норовящие залезть за стёкла огромных круглых очков в роговой оправе. Очки эти превращали её глаза в две удивлённые рыбьи плошки. Униформа, казённая роба цвета больничной тоски, висела на ней мешком, скрывая и намёк на талию, и грудь, которая при иных обстоятельствах могла бы считаться вполне приличной. Завершали образ ортопедические туфли, издававшие при ходьбе укоризненное шарканье, – настоящее противозачаточное. Вся она, ссутулившаяся, с вечно недовольным выражением лица, была живой иллюстрацией к слову «безысходность».
«Так, здесь у нас капли крови, – рассуждала она, остервенело оттирая тёмное пятнышко у входа в палату №7, – вчера деду привезли внуков. Умилялся, аж катетер выпал. А вот это, – она принюхалась, – похоже на пролитый кефир. Или блевотину. Или кефирную блевотину. Пиздец».
Её мир был прост и понятен; он состоял из грязи физической и грязи метафизической, и со второй она справлялась куда хуже. Люди её утомляли. Их болтовня, их болезни, их тупые надежды. С Верным было проще. Он молчал и делал свою работу.
Смена закончилась на рассвете. Выйдя из больничных ворот, Лидия вдохнула промозглый утренний воздух. Город просыпался, спешил, гудел. А она хотела только одного: домой, в свою пещеру, к своему маленькому пушистому тирану.
Тирана звали Амур. Ироничнее имени для кота тридцатидвухлетней девственницы придумать было сложно. Амур был жирным, наглым созданием с повадками диктатора небольшой, но очень гордой страны. Он встретил её у порога требовательным «Мяу!», что на его языке означало: «Где была, рабыня? Миска пуста, лоток полон, моё величие оскорблено».
– И тебе доброе утро, шерстяной говнюк, – пробормотала Лидия, спотыкаясь о него в прихожей.
Сбросив туфли и стянув верхнюю одежду, она осталась в старой растянутой футболке и трусах. Подошла к зеркалу. Из заляпанной поверхности на неё смотрело оно: заспанное, отёкшее нечто с гнездом на голове. Лидия сняла очки. Черты лица сразу стали мягче, а большие серые глаза – осмысленнее.