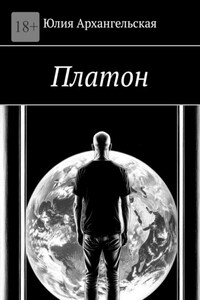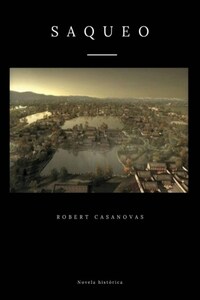«Лету не дано знать, которое оно по счету от Рождества Христова или от рождения Земли. Зимы пронумерованы, и виной тому ритуальная ночь без сна, закрепляющая иллюзию порядка в бесконечном хаосе жизни. Лето же – нечто личное, словно потаенное душевное тепло, очаровательное в своей внезапности. Оно начинается вдруг с ощущения вспотевшей спины в апреле или мае и заканчивается далеко за полночь в сентябре, когда ты закрываешь форточку и засыпаешь, силясь вспомнить, куда дел свитер. Лето – всему голова, если смотреть на него снизу вверх. Никто не спрашивает, сколько тебе зим. Неприлично напоминать человеку о не единожды пережитом с трудом. Сколько лет, интересуются люди, и ты отвечаешь не сразу. Память складывает лета в одну коробку и хранит, будто нет для нее ничего дороже. Вся жизнь состоит из мимолетных лет и их ожидания», – эти мысли вертелись в голове старика, который сидел на конечной остановке автобуса и смотрел, как ворона стучит клювом о пень.
– Триста лет, – произнес он вслух.
– Триста лет автобуса ждете? – молодой человек поставил рюкзак на скамейку и с любопытством разглядывал старика, при котором не было багажа. Казалось, он сидит здесь потому, что это единственная скамейка на всю деревню.
– Воро́ны живут триста лет, точнее, во́роны. Так говорят, но это басни. Семьдесят пять – их предел. А вон та и двадцати не протянет, только она не в курсе. Вот она – прелесть природы. Живет себе, жрет что ни попадя, летает, а потом кирдык – и одной вороной меньше. Не то что мы… Много ума – беда, мало – совсем беда.
– Автобус не проходил?
– Пока нет, я его тоже жду.
– Давно? – поинтересовался парень и сверился с часами.
– Восемьдесят три вечера, – старик встал, сделал два шага, нагнулся, упершись в колени. Он вытянул шею и старался угадать в какофонии вечера знакомый рокот мотора. Молодой человек невольно прислушался. Над головой прогудел шмель, в траве надрывались кузнечики, за забором лязгала цепь и гортанно рычал пес, внезапно он гавкнул – и стая чижей с визгом рванула из кустов в лес. Послышался рев двигателя, и тут же мимо пронеслась ржавая иномарка, подняв столб пыли. Старик покачал головой и выпрямился.
Его костюм смахивал на пижаму: брюки на тесьме и рубаха вроде пиджака – полный колхозный Бриони цвета соломенной трухи с симметричными разводами оттенка жженого сахара под мышками. Он забыл, что в брюках нет карманов, поискал их и заложил руки за спину. Нечесаные волосы свисали на лицо, но они нисколько ему не мешали, как и пышная борода с завитушками, которая собиралась расти вверх. От старика не разило, хотя должно было, и молодой человек предположил, что перед ним художник из Москвы, приехавший в глушь на пленэры, или бизнесмен, опять же столичный, пожелавший слиться с природой не только душой. Москвичи на отдыхе немногим отличались от бомжей, а вот местные и дачники после огородных работ преображались. Они выходили к остановке с сумками кабачков чинно, будто за ними должен прикатить лимузин. «Определенно, москвич».