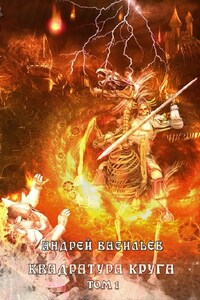Часть 2.
Глава 4.
Немного найдется пейзажей, способных сравниться по красоте с зимним хвойным лесом. Особенно если это не жидкий вторичный, а реликтовый, ни разу не вырубленный, где огромные ели в полтора обхвата устремляются в зимнее небо. Зима превращает лес и все вокруг в некую волшебную страну, где все сверкает неестественной чистотой. Снег только в песнях белый, а так – то золотистый под полуденным солнцем, то розоватый на закате, то густо синий в тени, сверкает в погожий день тысячами блестков. Редкие снежинки, кружась, медленно опускаются на землю в ясную погоду – это ветерок, гуляющий по вершинам деревьев, роняет их вниз. На открытых местах снег мягок, пушист, легко разлетается даже от взмаха руки. Под деревьями, в недоступных ветрам местах, слежался и затвердел. Там, под еловыми ветвями, каждая из которых размером с деревце, всегда тень, если не сказать – полумрак, тишина даже при небольшом ветерке.
Но уж если разгуляется непогода, пойдет из серых , низко висящих туч густой снег, а того пуще – налетит ветер, закружит метель – тут еловый лес станет родным домом: – укроет от ветра и снегопада, даст лапник на подстилку, чтобы не лежать на снегу, даст сухие, смолистые сучья на костер и лишайник –«дедову бороду» на растопку. Лишь бы припасов хватило пересидеть вьюгу. А уж до чего же хороши зимники – прямые, по сравнению с летними петляющими проселками, ровные – хорошо и в санях, и верхом, и на лыжах.
Вот как раз на лыжах и пробиралась ватага по зимнику, не спеша, но и не медля. Благо, деревни тут были, а, значит, и какие-никакие путники и проходили, и ездили, то есть не по целине надо было бежать и тащить поклажу, поскольку каждый второй тянул за собой чунки*, нагруженные необходимым. Ибо не смерды и не охотники шли – люди воинские, коим приходится побольше поклажи с собой брать. Видно было, что ватажники были привычны к таким переходам, да и вел их опытный предводитель – брат каргопольского князя Глеба Федор. С ним – семеро его дружинников, тех, которые с ним не раз и не два и в полюдье за данью, и на ловы хаживали, медведей из берлог поднимали да лосей на рогатину брали. Бывали молодцы и в стычках с лесными татями, коим не указ княжеская власть, умели и убивать, и в живых оставаться. Кроме них шли с князем двое братьев Савичевых – Андрей и Данила, бродники, оказавшиеся сложными путями в Каргополе и как бы на княжьей службе. Правда, князь своего почти одногодка Андрея скорей за друга считал, чем за послужильца, да Андрей и сам шею не гнул перед князем, хотя вежество соблюдал, особенно в городе и на людях. С бродниками шли двое новгородцев из купеческой охраны, взятые в полон, а после расспроса и крестного целования – на службу. Оба – бывшие ушкуйники, знающие цену и жизни, и воле. Выживут молодцы в опасном походе, да не подведут – ждет их по возвращении серебро да воля. Ну а не даст Бог – за правое дело, за Русь да Веру головы сложат, а не за мзду из рук супостатов. Оба – не юноши уже, четвертый десяток только-только, но разменяли. Уже не прельщают ни удалые походы, ни кровавые битвы, ни лихая гулянка, в которой пропивается добыча. Пора успокоиться и осесть где ни то, в новгородских пределах, стать своеземцами или мелкими торговцами, жениться, завести детей, чтобы было кому в старости позаботиться о бывших ушкуйниках. Оба стрижены в кружок, бородатые, похожи как братья – Ефим и Михалко. А проводником идет человек нездешний, с восходной стороны пришедший охотник Парыга. Пришел к ним на реку Вычегду* человек от ушкуйных атаманов с Хлынова, принес весть недобрую, дескать идет татарский отряд в сторону Поонежья, взбулгачить местную чудь, чтобы напали чудины на Каргополь-город, да в Белозерье набегом сходили. Не пойдут тогда князья местные на Москву по зову князя Дмитрия Ивановича дабы вместе с ним супротив Мамая выстать на рать. А сила у северных князей, ежели совокупить, немалая выйдет, хороший полк. Да и воины у них справные, не раз уже под рукой московского князя на войну хаживали. Вот и послали вятшие* люди с Вычегды Парыгу в Карогполь, благо матушка его родом с тех мест. Конечно, на Вычегде народ вольный, Новгороду дани дает, только здесь, на границе русского языка, острее ощущается то, чего не могут уразуметь в менее суровых местах. Ощущается уже и сейчас общность обычаев и Веры, того, что потом назовут Русским Миром. Потому и пошел Парыга в дальний путь, прошел заснеженными лесами, не испугался ни одиночества, ни чудских лиходеев. Да и помогали ему русичи из тех мест, коими он шел.