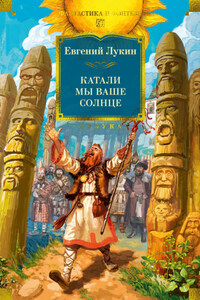Космический корабль «Эмпатик», формой напоминавший не столько стрелу, сколько сложный, хрупкий кристалл с множеством граней-антенн, замер в чернильной пустоте. Он был крошечной блестящей чешуйкой на коже великана, потерянной пылинкой в алой пасти. Бетельгейзе, раздувшийся в предсмертной агонии красный гигант, пылал на горизонте. Его свет был не светом в привычном понимании, а медленной, густой субстанцией, похожей на разлитый в вакууме фосфоресцирующий мед. Он заливал все вокруг кровавым сиянием, выхватывая из тьмы бесчисленные частицы космической пыли, превращая пространство в витраж из рубинового стекла. И на фоне этого апокалиптического зарева висела «Ойкумена».
Слово, означавшее когда-то обжитый мир, дом для человечества, теперь висело в вакууме насмешкой над самой идеей дома. Объект был идеально круглым, до абсурдной, оскорбительной для природы геометрической чистоты. Собранный из матово-серого вещества, которое не отражало, а поглощало свет умирающей звезды, он казался дырой в самой реальности, заплаткой на ткани космоса. Он не вращался. Не излучал ни тепла, ни радиации, ничего, что можно было бы уловить обычными приборами. Просто висел, безмолвный и завершенный, как точка в конце самой длинной книги Вселенной.
Но шестеро людей в командном модуле «Эмпатика» чувствовали его. Не приборами, а нутром. Тихий, непрерывный гул, проходящий сквозь титановую броню, сквозь кость черепа, прямо в ствол мозга, в самый древний его отдел, отвечающий за страх и ориентацию. Это была нейтринная симфония, которую нельзя услышать ушами, но невозможно игнорировать телом. Физическое ощущение чужой, колоссальной мысли, нависшей над твоим сознанием, как океан над каплей.
Воздух в модуле пах озоном от работающей электроники, сладковатым пластиком перегретых панелей и подспудным, едва уловимым страхом – запахом пота, который не успевал впитаться в рециркуляторы. Климат-контроль выдавал монотонный, чуть шипящий звук, но на его фоне явственно проступал другой звук – внутренний, субъективный звон в ушах, нарастающий по мере приближения. Бортовые огни, обычно яркие и деловые, сейчас были приглушены до минимума, окрашивая лица экипажа в мерцающие сине-зеленые тени, делая их похожими на подводных существ, наблюдающих за приближением левиафана.
Лидия Арсеньева, темпоролог миссии, прижала ладони к вискам, где под кожей пульсировали холодные вкрапления нейроинтерфейса. Ее инструмент, настроенный на декодирование не данных, а временных паттернов и нарративных структур, уже бился в истерике, улавливая лишь бесконечный, безначальный шквал состояний. Это было похоже на попытку разобрать слова в реве урагана – только рев был внутри черепа, и он не разрушал, а… укачивал. Он обещал покой. И этот обещанный покой был страшнее любой бури.