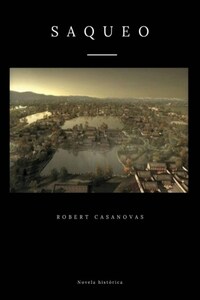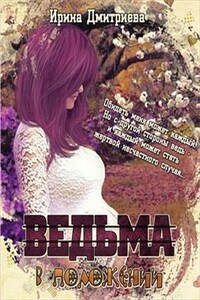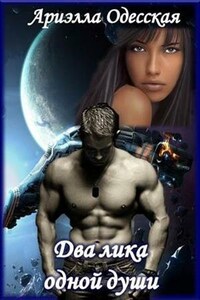Все цивилизации смертны. Последнее, что умирает в них – это миф. Мы строим пирамиды не для того, чтобы бросить вызов времени, а чтобы обмануть его. Правда истории скучна и эфемерна; она умирает вместе с последним её свидетелем. Но легенда, отлитая в совершенной, самодостаточной форме, переживает бронзу и гранит. Она становится вечностью, высеченной из самого воздуха. Мы, члены Ордена Сераписа, дали миру не просто гробницу. Мы дали ему одну из величайших историй, когда-либо рассказанных. И, как у любой хорошей истории, у неё должен быть конец. Этот конец начнётся с трещины.
– Из дневника лорда Карнарвона, 17 ноября 1922 года.
(Изъято из личного архива по распоряжению Говарда Картера)
Всё начинается с тишины.
Не с гула шагов в залах музея, не с щелчков фотокамер толпы паломников у входа в Долину Царей, и уж тем более не с торжественных речей учёных мужей. Настоящая история всегда начинается в тишине, в тот миг, когда её будущие герои ещё спят и не подозревают о роли, уготованной им замысловатым механизмом Судьбы.
В ту ночь тишину в святая святых, в Погребальной камере царя, нарушил едва слышный, влажный щелчок.
Он не был похож ни на что. Ни на раскат грома, ни на скрежет камня. Скорее, это был звук лопающегося мыльного пузыря, но пузыря, наполненного не воздухом, а тремя тысячелетиями искусственно созданного времени. Звук шёл не со стен, покрытых бирюзой, золотом и лазуритом, изображающими путешествие фараона в загробный мир. Он шёл из-за них.
На ослепительно яркой фреске, где бог Анубис склонился над усопшим владыкой, прямо у протянутой руки шакалоголового стража мёртвых, проступила влажная тёмная нить. Она была тонка, как паутинка, но для знающего глаза – красноречивее любого послания. Это была не трещина. Это была метка. Первая буква в послании, которое ждало своего часа сто лет.
Влажность в камере, которую датчики фиксировали неделями, была не причиной. Она была симптомом. Символическим эквивалентом слёз, которые проливает монумент, вынужденный нести бремя собственного вымысла.
Сотню зим назад здесь не было тишины. Воздух гудел от звена кирок и шёпота заговорщиков. Пахло не древней пылью, а свежим известковым раствором, краской, лаком и потом десятков безвестных мастеров, трудившихся в свете керосиновых ламп под неусыпным взором джентльменов с безупречными манерами и ледяными сердцами.
Они не раскапывали историю. Они её возводили. Возводили, как возводят собор – с верой, но не в божественное, а в силу человеческого восприятия. Они брали щепотку реальности – несколько подлинных амулетов, тело случайного юноши, наспех мумифицированное по забытой технологии, – и замешивали на ней тесто для величайшего пирога иллюзий. Говард Картер, человек с лицом аскета и душой инквизитора, не находил гробницу. Он её проектировал. Он расставлял саркофаги и ушебти, золотые колесницы и ларцы с небывалыми сокровищами, как режиссёр расставляет декорации для пьесы, которая должна идти вечно.