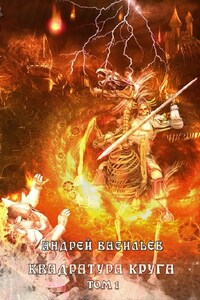Деревня эльфов пряталась в глубине, словно выросла из самой земли. Дома стояли низко, с тёмными стенами и крышами, покрытыми мхом; резные наличники повторяли узоры ветвей и листьев, а мостки через ручьи были тонкими и аккуратными, как стрелы. Тропинки петляли между домами, иногда исчезая под ковром из папоротников, и только местные знали, куда они ведут. Утро в деревне начиналось медленно: кто‑то разжигал огонь, кто‑то нёс воду, дети собирались у колодца и шептались о пустяках. Всё было размеренно и привычно, как дыхание.
На одной из таких тропинок, ближе к краю поселения, стоял дом, который казался особенно тёплым. Его прятала старая ель, ветви которой почти касались крыши. У входа лежала плита, на ней оставались следы от мокрой обуви, рядом – чурбак с вбитым в него топором. Внутри дом был прост: низкий очаг в центре, над ним котелок, лавки вдоль стен и подоконник, усыпанный мелкими вещицами – гладкие камни, перья, маленькие деревянные фигурки. Здесь всё было на своих местах, но не из строгости – скорее из привычки, которая делает дом домом.
На кухне стояла женщина. Она была полная, с широкими плечами и добрым лицом, в котором читалась усталость и терпение. В одной руке у неё был деревянный половник, в другом – кусок хлеба; она помешивала похлёбку в большом котле, и пар поднимался к низкому потолку, смешивая запахи жареного лука, корней и сушёных трав. Её движения были уверенными: она знала, сколько соли добавить, когда подсыпать муки, как снять пену, чтобы бульон остался прозрачным. Иногда она напевала тихую мелодию, не слова, а скорее ритм, который возвращал дом к жизни.
За столом сидел мальчик. Он был худой и высокий, с плечами, которые ещё не привыкли к взрослой ширине. Светлые волосы у него всегда были растрёпаны – то ли от сна, то ли от привычки засовывать руки в них, когда думал. Лицо тонкое, глаза светлые и внимательные; в них не было детской суеты, скорее постоянное наблюдение, как будто он собирал мир по кусочкам. Он не кричал и не бегал с другими детьми; чаще его можно было увидеть на краю деревни, где тропинка уводила в лес, или на камне у ручья, где он сидел и слушал воду.
– Не будешь ли ты есть? – спросила женщина, не отрывая взгляда от котла. Её голос был ровным, без упрёка, просто констатация факта: еда готова, пора есть.
Арон взял ложку, попробовал похлёбку и отложил её. Он не был голоден в том смысле, в котором голодны другие; его голод был другим – на звуки, на пустоты между словами, на то, что нельзя положить в миску. Мать бросила на него тёплый, но тревожный взгляд. Она знала, что он другой, и это знание лежало в её движениях, в том, как она иногда задерживала руку над его головой, не решаясь пригладить волосы.