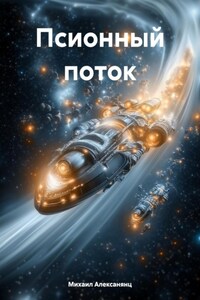Леонардо проснулся ни свет ни заря. Да, заря пока ворочалась в постели из седых крон на горизонте; свет же тёк лишь от спелёнатой облаками Луны и оседал серебристой моросью на чернильную целину под окнами.
Леонардо вышел на балкон. Было зябко и уютно смотреть в это темперно-синее небо, в котором, как будто ложкой, перемешаны звезды. Леонардо уже, было, задумался о беспредельности пучины, разверзшейся у него над головой, но вспомнил, что его ждет дело.
Он зажег факел на стене, и янтарный туман, сверкнув, наполнил воздух. Звезды побледнели. Леонардо бросил прищуренный взгляд на мольберт: там боролись огненные и лунные блики, и в их мельтешении краски возвращали себе естественный цвет. На холсте проявились очертания.
«Жалкий подмалевок за всю прошлую неделю!» – подумал Леонардо и до боли сжал пук седых волос. Нега мигом спала, вернулся вчерашний боевой запал. Пальцы влипли в волосы. Вчера он заснул прямо с кистью в руке, едва успев сделать пару ватных шагов до кровати.
Он без жалости дернул рукой – на ней остались обвитые вокруг пальцев изможденные волосы. «Проклятое масло совсем не сохнет, – насупившись, думал Леонардо. – К вечеру не закончу». Скребя вафельным полотенцем ладонь, он оглядывал рабочее место, зрачки его решительно бегали.
На раскисшем от уличной жизни бюро были разложены глиняные тигли с красками: жженая умбра, сиена, ультрамарин. Леонардо помахал ладонью над ними и брезгливо втянул воздух. В нос ударил горячий древесный запах.
«Переборщил с камфарой, – понял он. – Всё не слава Филу!»
С каким тщанием он готовил накануне пигмент: толок морские ракушки в ступке с уксусом, сушил на солнце цветы синили и спрыскивал их лисьей желчью, добытой по случаю у пилигрима за четверку.
А теперь выходило, что все зря!
«Да простит мне Фил это отступничество!» – он посмотрел на небо, а потом решительно сгреб тигли в мусорный пакет. Достал из бюро тюбики с маркировкой «Краска темперная, поливинилацетатная, для живописных работ», щедро выдавил на палитру по червяку каждого цвета и принялся за дело.
Мусорный пакет протекал мутноватой радугой прямо на его босую ногу, но он уже ничего не замечал.
Леонардо нырнул в свое любимое состояние, в котором он как будто вовсе исчезал: оставалась только творящая рука. Она бросала мокрые мазки на холст, раздраженно стирала их тряпкой, накладывала новые, уже осторожней, размазывала их мокрой кистью, соединяла в целое.
Потом, когда Леонардо возвращался, он с удивлением обнаруживал себя, как в зеркале, внутри картины. Нет, не портретное сходство – он крылся где-то между мазков: в соотнесениях цветов, пропорций и фактур. За столько лет Леонардо так и не смог привыкнуть к этому чуду.