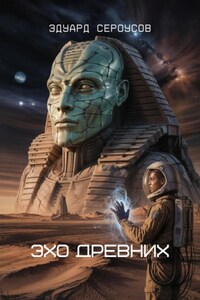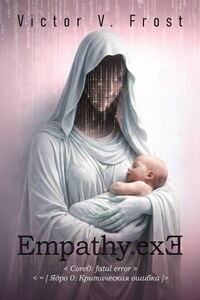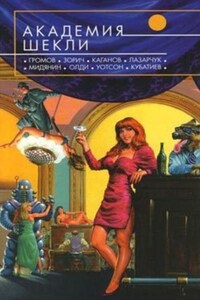Московский институт сознания, 2147 год
Аппараты не лгут.
Лена Вороновская знала это лучше других – двадцать три года нейрофизики приучили её доверять данным больше, чем интуиции. Но сейчас, глядя на экран монитора, где зелёная линия пульса всё ещё выписывала неровные зубцы, она хотела, чтобы аппараты солгали. Хоть раз.
Палата интенсивной терапии детского отделения пахла озоном и синтетической лавандой – стандартный аромакомплекс для снижения тревожности. Не работал. На Лене – точно не работал. Она сидела на краю кровати, держа в ладонях руку дочери: тонкую, почти прозрачную, с синеватой сеткой вен под кожей. Рука была тёплой. Это почему-то казалось самым важным – что рука ещё тёплая.
– Мама.
Голос Миры – тихий, с хрипотцой от трубок, которые убрали только вчера. Семь лет. Она прожила семь лет, и бо́льшую часть последнего года – в этой палате, под капельницами, под сканерами, под взглядами врачей, которые всё реже улыбались.
– Я здесь, зайка.
Лена наклонилась ближе. Дочь смотрела на неё – глаза слишком большие на исхудавшем лице, радужка того редкого серо-зелёного оттенка, который она унаследовала от отца. Отца, который умер три года назад. Авария на орбитальном лифте. Лена не успела попрощаться – была на конференции в Сингапуре. Теперь она боялась выйти даже в коридор.
– Ты устала, – сказала Мира. Не вопрос – констатация.
Лена попыталась улыбнуться. Мышцы лица не слушались; улыбка вышла кривой, почти гримасой.
– Немного.
– Ты всегда говоришь «немного». – Мира слабо сжала её пальцы. – Даже когда много.
Тридцать шесть часов без сна. Может, сорок – Лена перестала считать после того, как утром онколог произнёс слова, которых она ждала и боялась услышать последние три недели. «Мы сделали всё возможное. Метастазы в стволе мозга. Терминальная стадия. Часы или дни».
Часы.
Она не сказала Мире. Не смогла. Да и зачем? Девочка знала. Дети всегда знают – они чувствуют смерть раньше, чем взрослые успевают подобрать слова.
– Мама.
– Да?
– Я хочу тебе кое-что сказать.
Лена замерла. Сердце – её собственное, взрослое, изношенное – пропустило удар. Она видела это слишком много раз в своей практике: момент, когда умирающий собирает последние силы, чтобы произнести что-то важное. Предсмертная ясность. Нейрохимия агонии – выброс эндорфинов, последний всплеск активности коры.
Она ненавидела себя за то, что думает об этом в терминах нейрохимии. И не могла остановиться.
– Я слушаю, зайка. Я всегда слушаю.
Мира смотрела на неё – и Лене вдруг показалось, что взгляд дочери изменился. Стал глубже. Старше. Словно за этими серо-зелёными глазами скрывалось что-то, чему не место в семилетнем ребёнке.