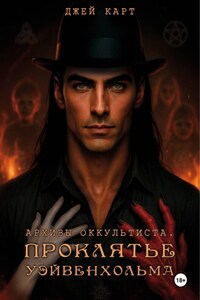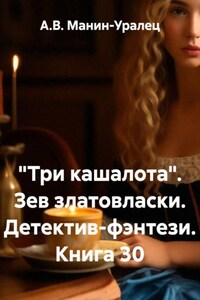Туман между деревьями был не просто густым – он казался живым. Влажный и тягучий, он стелился по земле, оплетал старые вязы и глушил звуки, рождая гнетущую тишину. Мир сжался до мутного облака, где не существовало ни прошлого, ни будущего – лишь сырое, дышащее холодом настоящее.
И из этой белой пелены она начала проступать.
Сначала лишь смутные очертания, будто мираж. Затем – алые огоньки, мерцающие сквозь молочно-белую завесу. Они не разгоняли туман, а окрашивали его в багровые тона, словно капли крови, расплывшиеся в воде.
Это была старая, прогнившая карусель. Ее не должно было быть здесь. Она не могла работать.
Но карусель закружилась.
Ее вращение было пугающе плавным, а ржавые механизмы издавали глухой скрежет. Из глубины тумана поплыла музыка – искаженная, замедленная, будто доносящаяся из старого патефона, утопленного на дне реки. Детская песенка, наполненная неуместной тоской.
На облезлых лошадках, вздыбленных в вечной скачке, замелькали тени – неясные, лишенные очертаний детские силуэты: вот крошечная ладонь, вцепившаяся в гриву; вот промелькнувший затылок; вот проблеск веселой улыбки. Призрачные и в то же время пугающе осязаемые, дети несли в себе обманчивое обещание жизни в царстве мертвых.
Вдруг раздался смех – звонкий, чистый, полный беззаботной радости. Он прорезал вой мелодии и скрип металла, на мгновение заполнив все пространство, и…
Оборвался.
Резко, на самой высокой ноте, он превратился в пронзительный, леденящий душу визг ужаса.
Туман, словно насытившись, сомкнулся. Алые огни погасли один за другим. Музыка захлебнулась и умолкла, увязнув в плотной белой пелене. Скрип затих.
Когда туман поредел, между вязами не осталось ничего, кроме тяжелой, вязкой тишины. Словно ничего и не было.
Словно все это – лишь видение.
Поезд шел, выстукивая однообразный ритм. За окном в сумерках угасающего дня проплывал унылый пейзаж, написанный охрой и серой акварелью.
Рауль Мортис ненавидел осень.
Для него это было не временем уюта, а медленным, всеобщим увяданием. Природа не засыпала – она умирала. Листья не золотились, а гнили, превращаясь под сапогами в бурую кашу. Воздух не бодрил, а впивался в лицо холодной хваткой. Осень была растянутыми во времени похоронами живого мира, и Рауль ежегодно становился их невольным свидетелем.
Агнесса… Она обожала осень, считала ее временем волшебства и с нетерпением ждала Самайн: тыквы-фонарики, карамельные яблоки, дурацкие маски… «Пап, смотри, фея!» – ее восторженный крик будто еще висел в стылом воздухе купе. Рауль почти ощущал маленькую ладошку, сжимающую его пальцы. Как тогда, когда они выбирали самую большую тыкву на рынке.