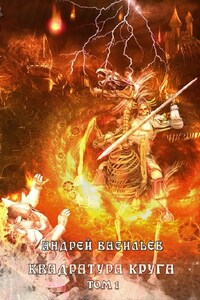Последнее Эхо.
Эхо поймал собственное отражение в зеркале. На него смотрел мужчина лет двадцати пяти – типичный представитель Муйтинамари, с округлым румяным лицом, светло-рыжими волосами и спокойными светлыми глазами. Лицо, которое он видел, уже давно не имело ничего общего с тем, что он чувствовал. Годы выступлений отлили его в идеальную, непроницаемую маску. Он порой ловил себя на мысли, тайном страхе: однажды он посмотрит в зеркало и не увидит себя – лишь идеально подогнанную личину для сцены.
Он механически смахнул несуществующую пылинку с рукава. Костюм. Тёмно-зелёная ткань, прошитая светлой вертикальной полосой. Присмотревшись, можно было разглядеть, что полоса – не абстрактный узор, а бесконечно повторяющиеся строки из поэмы эпохи Второй Редактуры. Забытые слова, ставшие украшением. Текст давил тяжестью мёртвого языка, впитываясь в кожу прохладной тяжестью. Подмышки костюма были уже чуть влажными от предстартового адреналина, а привычное напряжение сковывало трапеции, будто на плечи положили невидимую свинцовую мантию.
Пиджак двубортный, строгий. Пуговицы – тёмные, глухие глаза. Из нагрудного кармана эффектным треугольником выпирал платок-паше – тот же текст, но отпечатанный в скупой, геометричной серости. Каждый раз, надевая эту униформу-палимпсест, Эхо чувствовал, как кожа под тканью покрывается мурашками. Слова липли к телу, навязывая чужой ритм, чужую память. Во рту пересохло, язык прилип к нёбу – знакомый, тошнотворный привкус страха, замаскированный под аромат полоскания для рта с мятой.
Он глубоко вздохнул, выравнивая дыхание под размеренный ямб предписанного этикета. Готов. Маска надета. Эхо вышел из гримёрки, бесшумно скользя по коридору и обходя других артистов. Одни уже отыграли свой набор и с пустыми глазами ждали расчёта, другие судорожно шептали заклинания-распевки, в последний раз настраивая голосовые связки – свой главный инструмент и свою вечную каторгу.
Эхо был одним из немногих «артистов», кому дозволялось выступить на церемонии награждения лучших выпускников Имперской Академии. Тем, кому предстояло влиться в ряды семиотической инквизиции, управляющих фонетическими шахтами и архитекторов прагматического контроля.
И он был единственным на этом празднике имперской гегемонии, кто не состоял у неё на службе. Всего лишь бродячий декламатор. Разрешение на декламацию поэмы на мёртвом языке было не жестом либерализации, а высшей, циничной формой лингвистического империализма. От языка не осталось ничего – ни сакрального смысла, ни подрывной семантики, лишь изысканная фонетическая оболочка, пригодная для эстетического потребления аристократии.