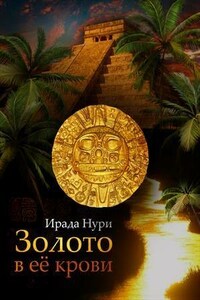Вены Артстусса читать онлайн
Аннотация
В вечно дождливом мегаполисе Артстусс, где преступность – вторая экономика, программист-социофоб Повиллиан живет в добровольной изоляции. Его мир – это код и стены квартиры. Но случайный укус в темном переулке запускает в нем чудовищную мутацию.
Тело предает разум, а город, который он презирал, превращается в симфонию пульсирующих вен и нечеловеческого голода. Чтобы выжить, ему придется принять новую природу и создать свой жестокий кодекс, став самым эффективным и невидимым хищником в каменных джунглях. Но можно ли сохранить остатки души, когда ты сам стал монстром, а по твоему следу уже идут те, кто охотится на таких, как ты?
Владимир Лазовик - Вены Артстусса
Книга заблокирована.
С этой книгой читают