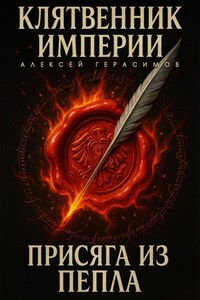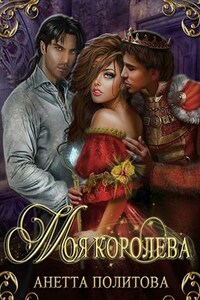Я тот, кого забыли.
Когда имя ещё было ценностью, а письменность – магией, меня звали «Кощей». Не седой злодей из детских страшилок, а хранитель предела. Я держал границу, где жизнь сдавала узлы и берег иглу, которой снимают нити судеб. Меня просили подождать с разрубом, дать ещё день, ещё вдох и я давал. Меня умоляли перерезать, и я резал. Я был не «Бессмертным» в том смысле, что мне нельзя умереть. Я оберегал чужие смерти в порядке и числах: у каждой – своё место, своя полка, свой шов.
Пока слова имели вес, меня уважали. Потом слова облегчали, как мыльные пузыри и начали плавать на поверхности времени. Письмо упростили, память стандартизировали, смерть перевели в строки ведомостей. Я не исчез сразу. Сначала меня просто перестали благодарить. Потом перестали звать. Потом перестали помнить, что за пределом кто-то есть.
Я дольше всех соблюдал правила. Но даже у богов есть пределы.
1812. Москва. Дым и герб
Теперешние учебники рассказывают про великое отступление и пожар. Но лишь в моём логе остались детали: дрожь камня под сапогами, сухой жар, крошки сажи на губах погорельцев. На Спасской башне горит узор двуглавого орла – не краской на камне, не позолотой, а тончайшими стежками символа, связывающего город с собственной душой. Увы, но символы тоже горят. Их огонь холоден, без пламени, но жжёт память.
Я стоял там, где ветер распарывал дым, и ставил стежок за стежком. Игла входила в камень легко – не потому, что камень мягче ткани, а потому, что ткань мира тоньше камня. И тут я заметил – рядом кто-то ещё держит шильце. Юный, почти ребёнок, с аккуратными пальцами каллиграфа и взглядом старше собственного лица. Он штопал так, как штопают любимую рубаху: не для красоты, а чтобы держалось. Я не вмешался. Я редко вмешивался, когда видел, что петель хватит.
Он потом уйдёт из дыма в грозу и в неё же вернётся, но это уже его рассказ, не мой.
Когда орёл на миг свёл крылья, Москва вздохнула. Историки опишут это как «патриотический подъём». А в моём логе останется лишь небольшая метка: символ сохранён; цена – три улицы воспоминаний, сгоревших без огня.
1917. Петроград. Красные бумажные волны
Революции пахнут типографской краской, кислой шерстью шинелей и свежесбитой доской для трибун. Никакой «романтики пожара» – просто усталость букв. Слова, напечатанные на дешёвой бумаге, теряют плотность, когда их слишком много. И всё же они резали ткань реальности лучше любого клинка: «мир», «земля», «воля» – разомкнутые петли, за которые тянули тысячи рук.
Я ходил между колонн с плакатами, собирая сорвавшиеся нити, чтобы толпа не упала в щель, которую сама себе разверзла. На одной из баррикад встретил Деву Воды. Берегиня была строга, как всегда, но во взгляде усталость той, кто видел слишком много мути. Мы спорили о методах: она уносила лишнее, чтобы вода снова текла в русло; я подшивал дыры, чтобы берег не осыпался. Это извечный спор природы и архивариуса. В тот день мы молча сделали каждый своё, и город не рухнул.