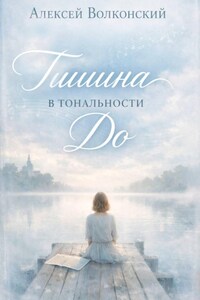Мышь забилась в глубь шкафа и теперь с опаской поглядывала на него из своего укрытия.
«Глупая, что же ты боишься? Был бы я кошкой. Или хотя бы человеком».
Ничего человеческого в нем больше не осталось.
Вышло все, когда он увидел ухмылку на лице Гарри, который как раз подтянул последний стежок. Когда остервенело грыз его по ночам холод, а он только и мог, что мычать да подвывать в унисон с ветром, что носился меж закрытых дверей и щелей в рассохшихся оконных рамах.
«Больше ничего…», – он устало толкнул носком ботинка дверцу шкафа, и круглое серое тельце выгнулось, пискнуло и помчалось к дырявой стене, ощерившейся старой проводкой.
Ветер гудел под потолком и меж половиц, собирались в стайки окурки, грохотали пивные банки. Прошлогодние сухие листья метались по полу, хотели улететь сквозь зарешеченные окна, бились в накрепко закрытые двери, но только хрустели и жались по углам. Крыша подтекала, и на паркете собралась вода – бери да пей!
Но он не мог. Когда наступала ночь и лужицы на паркете промерзали, он колупал обломанными ногтями ледяные кусочки, отламывал аккуратно и пропихивал между швами. Язык, шершавый и сухой, будто наждачка, отзывался болью на ледяное прикосновение, но он терпел и аккуратно пропихивал в рот следующий кусочек.
«Ничего, ничего. Тише». Он уговаривал себя, успокаивал, но ужас прорастал в нем, и так мерзко, жалко и жалобно ему становилось, что хоть вой.
И он выл. Подвывал низко, пихал льдинки в рот, а потом сворачивался в углу и стонал, потому что горло саднило, болело избитое тело, а еще было очень холодно.
Но иногда он все же поддавался на свои же уловки: гонял мышей, иногда смотрел на улицу, когда в темном зимнем небе занимался рассвет. И еще он ждал.
Ждал с тревогой и ужасом, что вернется Гарри с компанией (двое его бритоголовых дружков решили, видно, что собутыльникам в баре можно не представляться, а он и не настаивал). «Не стоило с ними пить, не надо было говорить, кто я! Что за дурак!»
Гарри злой, и он закончит начатое – добьет и снова швырнет его в подвал.
«Никто не придет», – эта мысль забилась в его ошалевшем от холода и боли, воспаленном мозгу во вторник, через сутки, как он смог выбраться из сырого подвала в холл.
Никто не придет. Не будет спасения.
«Но и боли не будет», – с улыбкой возражал он себе и хихикал глухо, словно над лучшей в мире остротой.
Смерть перестала его пугать, подняла черную вуаль и представилась ему избавлением. И он ждал ее с волнением и надеждой. Вскрыл бы вены, резанув по руке осколком стекла, или повесился на ремне – чего, казалось, думать?