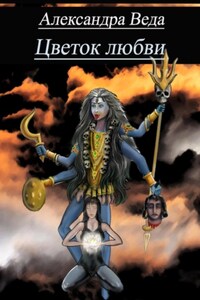С диспутами у ребе Акивы бен Йосефа всегда было… не так, как у людей. Не с теми, что скрипели на пергаменте Талмуда или пылились в толстенных томах комментариев – о, там-то он плавал, как щука в реке, гоняя оппонентов по лабиринтам логики с азартом гончей, взявшей след. Там буквы были его клинком, а цитаты – щитом кованым.
Нет, сложности, непреодолимые, как иерихонская стена, начинались, когда спор выползал из библиотечной тиши в грязную, нечесаную явь штетла Полянки. Например, принимал облик Ханы, бойкой и румяной, как печеное яблоко, жены меламеда. Эта бестия с упорством, достойным осадной машины, каждое утро водружала свои драгоценные горшки с дохлой геранью на ту самую, единственную приличную скамью у синагоги, где Акива имел привычку после утренней молитвы собирать мысли в кучу.
– Ребе, ну где ж им еще греться, сироткам моим цветочным? – заводила Хана свою песню и сегодня, снова загромождая ему путь своими зелеными бастионами. Мокрый, до костей пробирающий октябрьский ветрило трепал ее платок и заставлял хилые красные цветки герани понуро кивать, словно соглашаясь с хозяйкой. – Солнца-то днем с огнем не сыщешь в этом проклятом баронстве, одна морось да туман! А тут хоть какой свет от дома Божьего падает, глядишь, и не загнутся до срока!
– Но позвольте, почтенная Хана, – в который уж раз за неделю начал Акива, привычным жестом поправляя очки на остром носу и пытаясь выжать из себя остатки терпения, которых было меньше, чем грошей в кармане у бедняка. – Сия скамья, согласно незыблемому постановлению кагала от пять тысяч… э-э… затертого года, определена для отдохновения мужей ученых и размышлений благочестивых! А не для произрастания… кхм… сорной травы!
– Какой еще сорной травы, ребе? – Хана набычилась, уперев руки в бока так, что ее широкий стан стал еще шире. – Цветы это! Для красоты! Чтоб глаз людской радовался, а не только пыль с ваших фолиантов сдувать! Да и где сказано, что размышлять нельзя рядом с цветами? Может, от них и мысли светлее станут, а? Как лепестки!
Акива шумно втянул воздух, чувствуя, как стройная цитадель его аргументов, возведенная на незыблемом фундаменте Галахи, трещит и осыпается под напором простого бабьего «а я так хочу!». Он окинул взглядом унылую картину штетла: кривые улочки, размокшие до состояния топкого болота; покосившиеся, вросшие в землю халупы; серое, брюхатое небо, готовое в любую минуту извергнуть новую порцию стылой воды. Свежестираное, но давно не сохнувшее белье висело на веревках безжизненными, серыми тряпками. Несло сыростью, прелыми листьями, кислым дымом из труб и еще чем-то неуловимо затхлым – не то квашеной капустой, не то самой жизнью в этих Полянках.