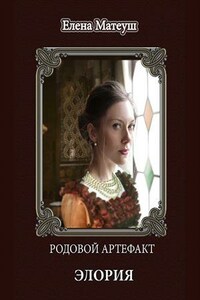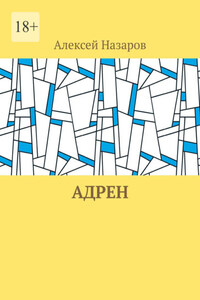В городе, чье имя выветрилось из анналов истории, словно надгробная надпись, стертая дождями времени, небо, даже в зените полудня, носило оттенок вечно синеющего заката. Солнце, бледное и отстраненное, словно монета из старого серебра, безуспешно силилось пробиться сквозь свинцовый полог облаков. Воздух здесь был густым, осязаемым, настоянным на испарениях влажного камня, речной гнили и чего-то неуловимо древнего, металлического, почти кровяного, что не мог определить неопытный нос обывателя. Улицы извивались причудливым змеиным танцем, сплетаясь в лабиринт, напоминающий одновременно забытую паутину и чертеж алхимического аппарата, заброшенного безумным творцом. Дома, высокие, узкие, с подслеповатыми окнами, стояли так тесно, прижавшись друг к другу, будто искали поддержки в немом, вековом ужасе перед тем, что таилось под ними, в чреве влажной земли.
В одном из таких домов, приютившемся на отшибе, где мостовая обрывалась глинистым краем над черной, неподвижной водой, обитали Элиз и Ингрид. Семнадцать лет от роду, но Элиз ощущала себя непостижимо старше, будто вся тяжесть этого города, этого неба, впиталась в ее кости, сделала их хрупкими и исполненными преждевременной мудрости. Ее существование подчинялось неумолимому ритму, заданному матерью, Ингрид, женщиной с лицом, высеченным из мрамора, словно скульптор вложил в него всю необъятность скорби и неземного безразличия. Их жизнь текла ровно и беззвучно, подобно песку в часовом стекле, чьи очертания давно стерлись от времени. Утро начиналось с точного, отточенного движения – задернуть окна плотной тканью, дабы дневной свет, даже этот ущербный, не нарушал хрупкий покой комнат. Затем скудная трапеза: пресные коренья, особые травы, собранные в определенные лунные фазы на заболоченных окраинах, и прозрачный, как слеза, бульон. Мать говорила мало, а когда говорила, ее голос звучал не из гортани, а словно из глубин комнаты, обволакивая, подобно холодному туману.
Элиз с детства знала, что она… иная. Не такая, как те, чьи смехи долетали издалека, с улиц, окутанных туманом. Кожа ее была болезненно-белой, почти фарфоровой, и на солнце, когда она осмеливалась подставить лицо его редким лучам, в минуты отсутствия матери, покрывалась не загаром, а легкой, болезненной сыпью, словно протестуя против его прикосновения. Ее сны были не снами вовсе, но мрачными коридорами, лабиринтами, где тени шептались на языке, который она, проснувшись, едва ли не понимала. Она была сосудом, объясняла мать. Сосудом для чего-то чрезвычайно хрупкого и чрезвычайно важного, и этот сосуд требовалось оберегать, наполнять, готовить.