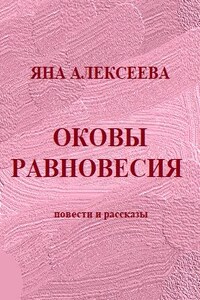Глава 1. Пепел и свет
Дарина проснулась от того, что воздух пах иначе – не тем влажным, вечно хлористым запахом фильтров, к которому привык организм убежища, а тонким, сухим привкусом, как будто кто‑то аккуратно отрезал часть привычного мира и оставил на краю раны. Часы на стене – круг из тусклого пластика с выцветшими цифрами – показывали раннее утро по внутреннему времени «хранения». В коридоре слышался ровный стук – шаги стариков, которые каждое утро выходили в общий зал пить слабый чай и обсуждать беспокойства, что оставались от прежнего мира.
Девушка застыла в постели, слушая: по вентиляционным каналам пробегал низкий гул, иногда как будто трепыхался, напоминая о машинах, что держали их жизнь в режиме минимального ожидания. Внизу, в кладовой, лежали коробки с последними пакетами сухого питания – те, кому повезло, считали их на дни и недели. Дарина знала это на ощупь: помнила все места, где прятали еду, как будто это были секретные карты прошлого. Её пальцы запомнили форму последней банки сгущёнки, оставшейся на полке – вмятина от ложки, следы пальцев матери. Глоток прошлого проникал в настоящую серость убежища, делая её одновременно дорогим и опасным. Она оделась в то, что было: круглая подкладка из синтетики, старый джемпер с вытянутыми локтями, ботинки с промятыми носками. Волосы были заплетены в неряшливую косу; на шее висел маленький медальон – круглый диск из потускневшего металла, в котором когда‑то фотографировали улыбку её матери. Когда Дарина касалась медальона, внутри всегда оказывалось тепло, будто бы там был какой‑то иной источник света, иной смысл. Уже нельзя было вспомнить, в какой момент потребовалось эту память закрепить – может, когда мать ушла окончательно. Мать умерла два года назад. Болезнь, которую тогда никто не мог назвать, украла её голос и оставила крестик из похоронных процедур: два дня грубого плача, молчащие старики, горсть земли, незаметно просыпавшаяся в углу общего двора. После этого «хранение» стало другим: незримая тяжесть опустилась на плечи, разговоры стали короче, и даже фильтры закашлялись сильнее. Те немногие, кто помнил внешнюю жизнь, говорили о том, что можно было бы сделать, если бы были инструменты, батареи, допуск к шахте – но это были разговоры стариков, которые не видели смысла идти дальше в мечты.
Дарина росла среди этих историй, но не принадлежала им целиком. Её детство прошло в постоянном склеивании – наклеивании воспоминаний на серые стены убежища, чтобы они не рассыпались. Старики учили её вязать, ремонтировать простые клапаны, собирать искры от старых солнечных панелей, чтобы зарядить фонарик. Она помнила, как мать сидела с ней на коленях и рассказывала истории о зелёной траве, о ветре, который не был заставлен урчанием машин. Эти слова казались сказками и одновременно обещанием. Мать не всегда была спокойна; иногда её голос дрожал так, как будто где‑то снаружи все ещё можно было услышать шаги прошлого, и тогда она говорила о том, как важно верить, что мир может быть другой. Убежище было домом и одновременно клеткой. Коридоры «хранения» изгибались подобно артериям, ведущим к общей комнате, где стояли столы и походный очаг – старинный прибор для переработки биомассы. На стенах висели старые таблички с напоминаниями: «Проверять фильтры каждые 48 часов», «Экономить воду», «Не открывать внешние двери без разрешения». Эти указания были формой молитвы – правилами, позволяющими выживать. Но сейчас они звучали мольбой.