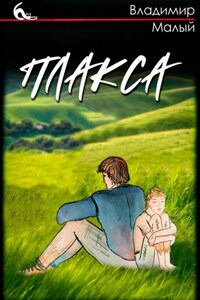– А что ж?.. – Романыч взял еще одно яйцо, гнетуще-багровое, видимо, крашенное луковой шелухой с добавлением неведомой химии. Стукнул о бетонный прямоугольник перед памятником – черт его знает, как эта штука называется. Летом там цветы растут, а сейчас просто окно в землю с робкой прозеленью травы. – И закусим, млять, помолясь.
У нас были: бутылка гнусной водки, два пластиковых стакана, ножик и соль в спичечном коробке. Ну и желание посидеть как люди.
– Яйца уже не лезут, – сказал я. – Пятое или шестое, надоели, с-сука.
– А ты их не считай! – хохотнул Романыч. – Жри, да и все. Или вон кулича отрежь, пока мягкий.
В понедельник после Пасхи раздолье здесь, конечно. Живых людей нет, все на работе – или с похмелья по домам, а мертвые еще никому не мешали. Никогда. Вот и кружим мы мелкими стервятниками по-над могилками, собираем закусь. Страда, если по-человечески выразиться. Самый сезон для пожрать без хлопот.
– Ну, Христос воскресе! – пафосно произнес Романыч и выплеснул водку в щербатый рот. Зубы через один на месте, а жрет за троих. Я младше лет на десять, но не угнаться.
– Воистину того. Этого.
Водка жгучая, из нефти гнали, небось. Спирт «экстра», вон дрянь! Зато кулич – не обманул собутыльник – мягкий, рассыпчатый, самое оно ожог зажевать.
– Ангела давно не видно, – прошамкал Романыч, заглатывая яйцо, считай, целиком: деснами передавил уже во рту и давай мять. – С ним прикольно, Димка.
– Болгарин, что ли?
– С чего вдруг? А, имечко… Не, эт-та погоняло такое. Не бери в голову.
Слова вылетали наружу с ошметками яйца, то искренне-белыми, то серыми как несвежие мозги.
– Молиться любит? – я истово почесался. Все хорошо в нашей бродячей жизни, кроме вшей и ментов. – Или чего?
Романыч жевал молча, сосредоточенно уставившись на бутылку, словно что-то новое в ней углядел. Мощный кадык дернулся, питательная смесь провалилась дальше.
– Нет, не молиться… Кому нам молиться, сам подумай? Богу? Так у него без нас хлопот до хера. У Ангела дар есть, клянусь. Я сам видел: подойдет к памятнику – любому, это не важно – дотронется рукой и стоит, глаза закатит, губами шевелит. А потом вслух как даст рассказывать, что за человек был, как жил, как умер. Хороший или плохой. Все как есть. А глаза не открывает – чисто покойник сам.
– Да ну, пизде… Брехня это все! – я оглянулся в поисках, чем бы запить эту клятую водку, но не нашел. Баклажку надо пустую, а воды набрать возле зала прощаний, там кран есть. Идти только лень.
– А вот и нет! – вдруг оживился Романыч, до того сонный и медлительный. – Не брехня! Это ж ты неместный, а у меня здесь тетка лежит. Ну и знакомые еще… Короче, я про них кой-чего помню, а ему откуда знать? Два миллиона в городе, и это только живых.