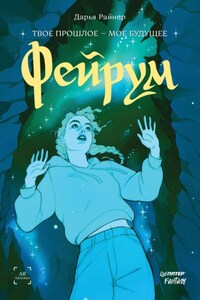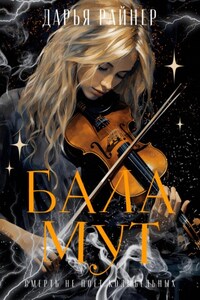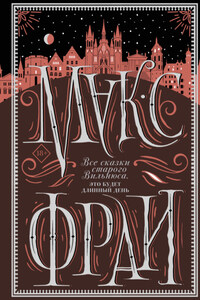Лучезарное небо кружит надо мною,
С его россыпью звёзд и закатом с зарёю,
Здесь я царю,
В ясном небе парю,
Я на крыльях плыву, что простёрты, как флаг,
Между Богом и миром скитаюсь одна.
– Мария Корелли, «Скорбь Сатаны»
В гостиной тихо играла музыка. Стелла только что закончила проект для школьной ярмарки и спустилась вниз.
– Мам?..
Занавески в комнатах были задёрнуты. Тонкая нить солнечного света лежала на полу, разделяя кресло, стоящее напротив камина, и софу, на которой сидел папа. Он не повернул голову. Ни один мускул не дрогнул на лице.
В последние дни он не замечал Стеллу. Передвигался по дому, словно лунатик. Молча. Пугающе медленно. На все вопросы мама отвечала, что папе нездоровится и она отвезёт его к доктору Бриггсу, как только закончатся паводки. Дороги размыло; квартал Дубовой Рощи оказался отрезан от центра Окхэма почти на неделю.
Прошлой ночью папа снова бродил по дому. Щёлкал замками и дверными ручками. Стелле даже почудилось, что он разбил зеркало в холле. Когда она спустилась, то увидела только маму – над россыпью слепящих глаз-осколков. Она мягко забрала у Стеллы телефонную трубку, не дав набрать «911». Сказала, что угрозы нет.
Но девочка была уверена в обратном.
Мама тоже изменилась – в конце зимы, после того, как начала приносить домой брошюры с изображением глаза внутри семиконечной звезды. Она была верующей, но никогда не входила в церковную общину. Не покупала так много свечей. Не называла Стеллу «птичкой».
Родительская комната стояла запертой, и тревога мучила Стеллу. Она бы позвонила миссис Тонтон, своей учительнице, но очередной ливень, накрывший Окхэм, оборвал провода.
– Не стой на пороге. Подойди.
Мама сидела в кресле, спиной к двери. От неё пахло горькой смолой и чем-то жжёным… Стелле не нравился этот запах, но она послушалась.
Игла на дорожке замерла: первые аккорды «After The Lights Go Out» [1] захлебнулись, и проигрыватель умолк.
Папа любил эту пластинку. Они с мамой иногда танцевали, смеясь и задевая мебель в гостиной. Стелла так хотела услышать смех…
– Вся эта музыка – назойливый шум. В ней нет красоты. Зато в твоём голосе – есть. Споёшь мне, птичка?
Золотая нить на полу растаяла, стирая границы. Солнце, выглянувшее на несколько минут, ушло за тучи.
– Я не хочу… – Она поравнялась с креслом и теперь могла рассмотреть мамин профиль. Черты лица заострились, под глазами легли тени. – Пожалуйста, давай поедем к доктору! Мне страшно за вас… – Девочка отвела глаза. – Особенно за папу.
– Зря. – Жёсткие пальцы сомкнулись на запястье Стеллы. – На меня смотри! Он всё равно тебе не ответит.