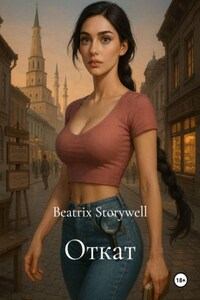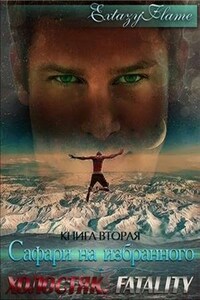Исповедь Империи
ПРОЛОГ
Санкт-Петербург, октябрь 1791 года
Бумага ждала.
Она лежала на полированном столе из карельской березы, белая и безмолвная, как снежное поле перед битвой. Её молчание было обманчивым. Бумага таила в себе гул будущих катаклизмов, шепот ярости и отзвуки падающих империй. Она была опаснее яда, острее кинжала и тяжелее всей короны Российской империи.
Екатерина Вторая, самодержица всероссийская, подошла к столу. От ее фигуры, еще могучей, но уже отягощенной годами и грузом не сбывшихся надежд, по кабинету побежали тени, стремительно меняющиеся в пляшущем пламени свечей. В кабинете не было ни золота, ни парчи, только запах воска, старого пергамента и вечного, невысказанного одиночества. За окном, в колючей мгле петербургской ночи, на секунду возник призрак Медного всадника – её великий предшественник, её проклятье и её вечный соперник в битве за место в истории.
Она взяла перо. Пальцы, подписывавшие указы, менявшие границы государств и ломавшие судьбы миллионов, на мгновение дрогнули. Она писала не для современников. Их она могла обмануть блеском двора и громом побед. Она писала для тех, кто придет потом, через двести, триста лет. Для тех, кто будет судить её, не зная цены её компромиссов.
«Знайте вы, грядущие…» – начало письма к потомкам было таким же пафосным и высоким, как и всё её правление. Но уже в следующем абзаце тон сменился. Исчезла Императрица. Осталась лишь женщина с циркулем в одной руке и окровавленным мечом – в другой.
«Сила России – в её терпении. Слабость – в этом же. Я расширила её границы так, что от ужаса сего деяния у меня самой сжимается сердце. Но что есть Империя? Это тело, пораженное неизлечимым недугом. Я прописывала ей слабительное реформ, прикладывала припарки просвещения. Но болезнь – рабство духа, страх как основа бытия – возвращается вновь. Она в нас. В нашей крови. Она переживет и меня, и те стены, что я возвела».
Она писала о будущем с точностью провидицы. Она видела трещины, которые однажды разорвут страну на куски. Видела, как её преемники будут замуровывать эти трещины не реформами, а страхом, пока однажды всё не рухнет в кровавом хаосе. Она давала им имена, эти призраки грядущего: «Великое Потрясение», «Эпоха Застоя», «Время Великой Лжи».
Это была не гордая исповедь. Это был диагноз, поставленный пациенту, которого она любила больше любовников, больше сына, больше самой себя. И этот диагноз был смертным приговором, вынесенным самой себе.
Закончив, она откинулась в кресле. Воск от горящей свечи упал на бумагу, как одинокая слеза. Она знала, что этот документ никогда не увидят. Он был слишком страшен. Он подрывал сами основы её власти, её легитимность, её Великий Миф. Он был правдой.