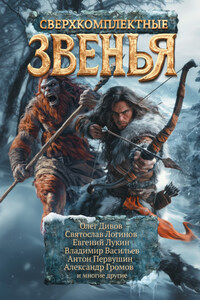– Стреляй! Стреляй, Андреич! Уйдет ведь фриц! – хриплый голос ведомого поднял Кожухова с койки, бросил в пот.
Ладони дернуло болью, словно под ними снова был раскаленный металл пулемета… Лучше б так: в самолете на два шага от смерти, но вместе. Чтобы Илюха опять был жив. Но юркий Як с двумя звездами на фюзеляже рухнул в поле под Бельцами, а товарищ старший лейтенант Плоткин не успел раскрыть парашют.
Или не сумел: Кожухов видел, как друга мотнуло в воздухе, приложив головой о хвостовую лопасть. Клятый «мессер» уходил к Пруту оскорбительно медленно, но патроны кончились, и топлива оставалось впритык. Скрипя зубами, сплевывая проклятия, Кожухов развернул Як на базу. Он доложил командиру, сам написал письмо матери, выпил с парнями за упокой души – и которую ночь подряд просыпался с криком. Тоска томила угрюмого летчика, разъедала душу, как кислота.
– Приснилось что, Костя? – сосед справа, молодой лейтенант Марцинкевич, приподнялся на локте, чиркнул зажигалкой, освещая комнату. – Может, водички дать?
– Пустое, – пробормотал Кожухов. – Не поможет. Душно что-то, я на воздух.
Он поднялся и как был босиком, в подштанниках и нательной рубахе вышел вон – глотнуть сладкой, густой, словно кисель, молдавской ночи. Где-то неподалеку был сад, пахло яблоками, и мирный, доверчивый этот запах совершенно не подходил к острой вони железа и керосина. Кожухов подумал, что в Москве только-только поспели вишни. В тридцать девятом, когда Тася носила Юленьку, она до самых родов просила вишен, а их было не достать ни за какие деньги. Потом она трудно кормила, доктор запретил ей красные ягоды. Бедняжка Тася так ждала лета, Кожухов в шутку обещал ей, что скупит весь рынок, – и ушел на фронт раньше, чем созрели новые ягоды. Левушка родился уже без него, в эвакуации, в деревенской избе. Он знал сына только по фотографии и письмам испуганной жены: ей, коренной москвичке, был дик крестьянский быт. И помочь нечем. Кожухов оформил жене аттестат, раз в два месяца собирал деньги, но от одной мысли, что она, такая хрупкая и беззащитная, рубит дрова, таскает мешки с мукой и плачет от того, что по ночам волки бродят по темным улицам деревушки, у него опускались руки. У Илюхи жены не было, только мать и сестра в Калуге, но друг воевал с непонятной яростью, словно один мстил за всех убитых. «А они наших женщин щадят? – кричал он в столовой и грохал по столу кулаком. – Детей жгут, стариков вешают ни за что – пусть подохнут, суки проклятые!» Сам Кожухов воевал спокойно, так же спокойно, как до войны готовил курсантов в авиашколе. И до недавнего времени не ощущал гнева: может быть, потому, что потери проходили мимо…