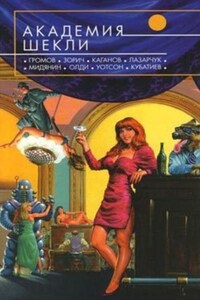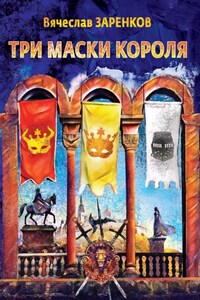Начало ночи, зима, 1702 год. Луна поднимается над зимним лесом, отбрасывая прохладные отсветы на древние сосны. Их ветви, покрытые снегом, напоминают неподвижные фигуры, охраняющие тихую дорожку, ведущую к небольшому поселению у реки Дон. Ночной воздух прозрачен и прохладен, напитан горьковатой смесью хвойного аромата и запаха реки.
Лунный свет, словно жидкий металл из царских плавилен, стекал по коре вековых сосен, превращая болотистую тропу в серебристый ручей. Гаврила Степанович Бушуев, лучший литейщик Воронежского адмиралтейства, шагал, сгорбившись под тяжестью ноши, и каждый его вдох вырывался клубами пара в ноябрьскую стужу. Его потрескавшиеся губы шептали проклятия, перемешанные с православными молитвами – на всякий случай.
Холщовый мешок за его спиной странно пульсировал, будто в нем билось живое сердце. Диковина, выменянная три часа назад у странного купца в таверне «Гармошка», стоила ему последнего слитка меди – запаса на всю зиму. Но когда тот тощий тип с глазами, как у ночной совы, продемонстрировал возможности штурвала…
Гаврила остановился, опершись о сосну. Пальцы сами собой развязали мешок. Штурвал, выточенный из черного дуба, казалось, впитал в себя свет тысяч лун. Его латунные вставки сверкали странным зеленоватым отблеском, а восемь рукоятей были отполированы до зеркального блеска – явно не руками матросов.
«Царь Пётр за такие штуковины целые деревни дарит», – вспомнились слова купца. Тот поправлял свою фламандскую шляпу с выцветшим павлиньим пером, и его пальцы казались слишком длинными, слишком гибкими… «Да только руль твой, друже, не корабли направляет, а сквозь бури времени…»
Гаврила фыркнул, смачно плюнув на подмерзшую хвою. В свои пятьдесят три он знал толк в трех вещах: звоне якорных цепей, песнях матросов у вечернего костра и том, что всякие заморские штуки – одна бесовщина. Но медный слиток уже отдал, а значит – надо пробовать.
Его лачуга у самого уреза воды пахла смолой, дегтем и ромом – тем самым, ямайским, что он припас для особого случая. Дверь скрипнула, будто нехотя впуская хозяина. Гаврила швырнул мешок на стол, за которым когда-то сиживал сам царь Пётр, когда инспектировал строительство первых галер.
"Ну, покажись, красавец", – проворчал литейщик, вываливая штурвал на стол. Дерево глухо стукнуло о дубовую столешницу, и в тот же миг в лачуге стало душно, будто перед грозой. Гаврила достал из-под пола бочонок, отпилил крышку топором и налил полную медную кружку.
Ром обжег горло, но не согрел. Рука сама потянулась к штурвалу. В тот миг, когда его пальцы коснулись лакированных рукоятей, Гаврила вздрогнул – дерево было теплым, как живое.