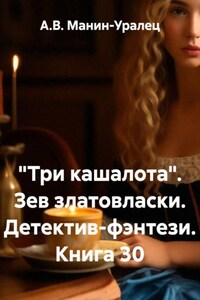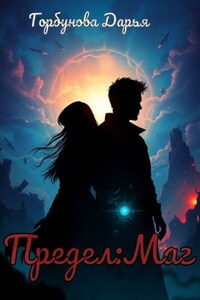Уход
Снег валил с неба тяжелыми, ватными хлопьями, застилая глаза, забиваясь в складки поношенной одежды. Он падал беззвучно, поглощая и без того скудные звуки зимнего леса, превращая мир в белое, стерильное безмолвие. И в этой всепоглощающей тишине, под мерный скрип промерзших валенок, шагал старик Аверьян.
Он был высок и когда-то, должно быть, невероятно силен – кряжистые плечи до сих пор выдавали в нем потомственного крестьянина, привыкшего с малых лет ворочать неподъемное. Но теперь сила эта ушла куда-то глубоко внутрь, источенная годами, горем и невероятной усталостью, что легла несмываемой печатью на его лицо. Лицо было изрезано морщинами, словно старый дуб – трещинами коры. Седая, всклокоченная борода, поросшая и на щеках, придавала ему сходство с лесным дедом, лешим, вышедшим из своей чащи подивиться на белый свет. Но глаза… Глаза были живыми. Усталыми, потухшими от боли, но живыми. И в их серой, как зимнее небо, глубине теплился крошечный, почти невидимый огонек. Огонек решимости.
За его спиной, укутанный в жалкий узелок, болтался весь его скарб: ветхие вериги, несколько луковок да краюха черствого хлеба. Больше ничего. Ни теплой одежды, ни запасов еды, ни оружия. Только клюка в мозолистой руке да безоглядная, пугающая своей цельностью вера в душе.
Он шел уже не первый день. Ноги гудели и подкашивались, из груди вырывался хриплый, болезненный кашель – старое увечье, напоминавшее о себе в стужу. Но он не останавливался. Он шел прочь. Прочь от людей, от их суеты, злобы, непроходящей боли. Прочь от воспоминаний.
Они настигали его и здесь, в безмолвии леса. Вон там, у покосившейся ели, ему привиделось лицо жены – Матрены. Молодой, румяной, с ясными, как вода в роднике, глазами. Она смеялась, запрокидывая голову, а солнце играло в ее волосах, делая их золотыми. Потом образ мерк, и на смену ему приходил другой – изможденный, желтый от болезни, с темными кругами вокруг впавших глаз. И тихий, прерывистый шепот: «Аверьюшка, побудь со мной… не страшно как-то…»
А он не мог быть с ней все время. Надо было работать, чтобы купить хоть какое-то снадобье у заезжего лекаря, чтобы хоть краюху хлеба добыть. И он пропадал в поле, на лесозаготовках, на любой самой тяжелой работе, возвращаясь затемно и заставая ее уже спящей, а однажды – застал холодной.
Потом пришла новая беда. Война. И единственный сын, Петр, здоровый, румяный парень, с глазами матери, ушел с помещичьим ополчением. И не вернулся. Пришла похоронка, скупая, казенная бумажка, в которой даже не было слов утешения. Просто констатация: «пал смертью храбрых». Где его могила? Изрешечен ли он пулями? Изрублен ли саблями? Или, быть может, умер от ран и лихорадки в каком-нибудь чужом сарае, взывая к отцу? Аверьян не знал. Знание это жгло ему душу раскаленным железом.